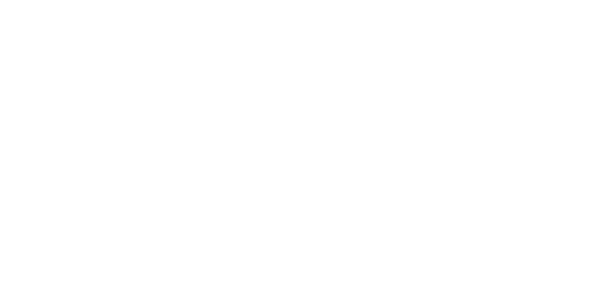Кристина Матвиенко:
Это второе мероприятие, которое заключено в рамку проекта «Архивирование будущего». Их будет еще немало, и сегодня – презентация издания, которое называется «Голем» и одновременно открытие выставки Юрия Харикова, и показ большого фильма Александра Белоусова, которые тоже посвящены проекту «Голем». Я представлю участников сегодняшнего разговора.
Григорий Зельцер – режиссер и, как я понимаю, инициатор этого проекта, это была ваша идея. Художник Юрий Хариков, чьи эскизы костюмов вы видите на этой выставке. Борис Юхананов – художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» и режиссер этого проекта. Ури Гершович – философ и культуролог. Ника Вашакидзе – философ, можно назвать вас философом, закончила философский факультет, я прочитала. Участница проекта и редактор этой книги, продюсер издания. Игорь Калошин – руководитель издательства «Театр и Его дневник». Книга, восьмитомное издание, заключенное в эту коробку, сегодня будет продаваться по специальной цене и его можно будет подписать у авторов.

БОРИС ЮХАНАНОВ:
– Первый том, второй, третий, пятый том, шестой том и седьмой том. Восьмой том – «Книга отражений». Здесь много всего.
К.М.:
Все отклики, собранные на проект. И флешка сбоку…
Б. Ю.:
А здесь еще два фильма, один из которых вы увидите сегодня, а другой…
К.М.:
В июне, 20-го числа. Сегодняшний фильм идет 4 часа, он будет идти с двумя антрактами. Мы здесь сначала поговорим, потом будем смотреть фильм. Борис Юрьевич, вы будете начинать разговор?
Б. Ю.:
Здравствуйте, дорогие гости. Я благодарен вам за внимание к жизни Электротеатра, за внимание к проекту, который называется «ЛабораТория». То есть, как вы видите, в этом проекте сошлись вместе два слова: работа (латинское слово «лабора») и тория (он слова «Тора»). Вот так образовался этот проект. 15 лет назад в 2002 году ко мне пришел Григорий Зельцер – мой товарищ, близкий друг и напарник по всем нашим приключениям, и предложил подумать о том, как может возникнуть театральный проект на основании священных книг иудаизма, которые принято все вместе называть Тора или Танах, по-разному, как можно обратиться напрямую к священным текстам. Надо признаться, что пришел Гриша ко мне, посланный тайным перстом Клима. Сам Гриша об этом прекрасно вспоминает в интервью газете «Сине Фантом». Мы с ним не были знакомы, он ходил по Москве и предлагал разным режиссерам эту идею – построить театральный проект на основании священных книг иудаизма. И в результате Клим как-то очень точно направил его ко мне. И так мы с ним познакомились, мы пошли в кафешку и стали обсуждать, разговаривать. А в этот момент у меня, в моей внутренней истории тоже происходили какие-то радикальные события в виде намерений, которые накопились. Я к этому моменту уже исчерпал, как мне тогда виделось, и я был прав в этом, отношения с театральной культурой полностью от корней до корешков. И в принципе мое внутреннее намерение было просто выйти из театра и, возможно, в него уже не возвращаться.
К этому времени я уже завершил работу над огромным проектом «Сад», над массой разных проектов, сейчас я не буду их перечислять в силу того, что я нахожусь внутри особого рода процесса, который мы в театре называем «Архивирование будущего». И это пребывание внутри этого процесса связано с тем, во что я погружаюсь не без нарциссизма... Дело в том, что какое-то исследование нарциссических стратегий на грани эксгибиционизма вдруг по каким-то трудновыговариваемым… постигло меня в эти времена, и я решил погрузиться в собственную жизнь. Но именно нарциссическая тропа, как мне представляется, дает возможность разглядеть многое, кроме меня самого. Если ты идешь по этой тропе, ты каким-то удивительным образом совершаешь акт, в развертывании которого ты можешь различить окружающее, это парадокс об автопортрете. Вот, на мой взгляд, лучшие автопортреты (я конечно не большой знаток этой огромной и очень древней традиции) те, с которыми я встречаюсь, каким-то удивительным образом через лицо или облик художника отражают объем целого мира, данный в лице, и мир этот не обязательно внутренний мир, внутренняя реальность, это вся реальность целиком. Где-то эти размышления сопутствуют самому проекту, который конечно отличается от личного моего переживания изнутри него. И поэтому он называется так обобщенно и просто – «Архивирование будущего». То есть это различение будущего в процессе движения к корням того мира, о будущем которого мы говорим в связи со стратегией архивирования.
Этот мир, а я сейчас говорю о самом проекте, внутри которого очень важную часть занимает «Голем» и ЛабораТория, начался в середине 80-х годов, именно отсюда берет отсчет сам по себе поступательный ритм развития. Этот проект, «Архивирование будущего», которое оказывается процессуальным предметом огромного проекта, мы ведем с Юрием Федоровичем Хариковым, чему я несказанно счастлив и испытываю особого рода сокровенные чувства в связи с нашей художественной, смысловой, человеческой близостью. И здесь в ЛабораТории, в «Големе» Юрочка тоже принял свое участие. Именно поэтому мы развернули маленькую выставку его эскизов.
Конечно сам по себе процесс, начавшийся в середине 80-х, прошел через множество стадий к тому моменту, как во мне появилась необходимость выйти из театра в начале нулевых годов. Если очень коротко сказать об этих стадиях, то это был «Театр Театр» в 80-е годы, попытка выйти на свободу из-под гнета уже разрушающегося, но все еще существующего брежневского декаданса и связанных с ним последствий в виде гниения тоталитаризма, которое развернулось в середине 80-х годов. При помощи «Театра Театра», андеграундного проекта, я с большой и прекрасной, очень разнообразной компанией людей, вышел в подземку и там развернул независимый театр, который мы так и назвали «Театр Театр». Это название удивительным образом через много-много лет всплыло в Перми в разгар так называемой пермской арт-революции и возникло на стенах областного театра. Он так и назывался «Театр-Театр», видимо как-то пытаясь подхватить искры наших позывов середины 80-х, Боря Мильграм так и назвал свой театр. Это меня не огорчило, а скорей удивило и обрадовало, что вот так странно живут имена. Оттуда, из «Театра Театра» вместе с довольно трагическими событиями, как я их тогда переживал и переживаю сейчас, в этом предчувствии крови, которая накопилась и должна была пролиться на путях развала советской империи в 90-е годы, на этих гранях был создан последний спектакль «Театра Театра» (а вообще их было несколько, но об этом отдельный разговор), он назывался «Октавия». Мы взяли тогда, выходя из подземки, и оказались в ЖЭКе с дикими «зверями» московского авангарда и запустили такой трагический проект в форме, наполненной акциями и перформансами, жэковской феерией по текстам Сенеки и Троцкого. Сенека – это «Октавия», его трагедия о Нероне, который сжег Рим, и эссе Троцкого, написанное в 1924 году, прямо после смерти Владимира Ильича Ленина. Мы соединили два этих текста, наполнили их документальным материалом из жизни тусовки, которую брала тогда на себя Дуня Смирнова, она была такой, тусовкой, Октавия-Тусовка, и рассказывали о предстоящем. Это был первый опыт общения со временем в перспективе будущего как в настоящем, и рассказывали мы его трагически, даже сжигали костюмы. И сейчас через время после огромного периода почти в тридцать лет, я сам возвращаюсь к этой теме, к этим текстам, совсем по-другому, в виде оперы, премьера которой состоится в июне в Амстердаме, и которая теперь называется «Октавия. Трепанация». Вот так связаны времена.
А дальше я опять развернулся, переживая это будущее вполне трагическое, оно настало. Все 90-е годы наше отечество сотрясалось под воздействием этого развала, и кровь выделилась – все это было, и остается. А я ушел в «Сад» вместе с прекрасной компанией моих учеников, которая так и называлась МИР, МИР-2. Мы оказались в «Саду». А Юрий Федорович разработал гениальный образ, который он предложил для «Октавии», – перевернутую римскую волчицу, стоящую в центре кровавой земли, с сосцами в виде Кремлевских башен. Мы не сумели тогда реализовать в полноте это видение, но сам этот образ остался во мне и жил все 90-е годы. Сейчас, конечно, мы уже ушли в другой облик того давнего спектакля, но волчица продолжает стоять на кровавой земле. В 90-е годы мы отправились в «Сад», это был особый проект, связанный исходным движением, придавшем нам возможность по-новому обратиться с мифотворчеством, которым по-своему были пронизаны 80-е годы там, в андеграунде. Но здесь мы открыли внутри чеховской пьесы «Вишневый сад» возможность для созидания мифа о Саде (то есть о месте счастья) который невозможно погубить. Это был миф не о красоте, как обычно обращались с этим чеховским текстом в высоких интерпретациях мирового театра режиссеры. Это был миф о Саде, о неуничтожимом Саде, и мы отправились в эту мифологию и остались там для того, чтобы досконально пройти сквозь него во всех его стадиях, изучая глубины и излучины этого пространства. На протяжении 11 лет мы занимались одной пьесой Чехова с потрясающей компанией людей. Нами было пережито, как мы тогда называли, восемь регенераций, мы вышли в девятую, и вышли одновременно с этим из «Сада» уже в нулевые годы.
О «Саде», о «Театре Театре», о всех тех насыщенных разными струениями периодах я буду рассказывать, со всем этим вы сможете познакомиться в книгах, в нашем своеобразном пятикнижии, которое будет сопровождать этот проект. Сейчас выходит второе издание, первое было посвящено «Недорослю». А сейчас второй пункт, вторая остановка в движении проекта «Архивирование будущего», который мы называем «Голем». Тогда после «Сада», после «Недоросля», после первых редакций «Фауста», после большой работы с МИР-3, после того, как я организовал Лабораторию ангелической режиссуры (ЛАР) на основании своего гитисовского курса, во всем этом обилии работ, переживаний и действий, наступил момент, когда я понял, что уже оказываюсь за чертой театра. Именно в этот момент со мной встретился Гриша и предложил уйти в глубину иудаизма. И я принял это предложение Григория, и отправился туда. У меня еще игрался спектакль на Поварской у Васильева, как бы подводящий итог, а потом как оказалось, в каком-то смысле переводящий нас. Спектакль этот я сделал вместе с Юрой, он, как и всегда создал потрясающую сценографию к нему, спектакль назывался «Повесть о прямостоящем человеке». Прямостоящем. Это та самая позиция прямостояния, которая была положена в основание Ботмеровской гимнастики. Рудольф Штайнер получил импульс через ясновидение, передал его графу фон Ботмеру, и тот открыл будто бы исчезнувшую, призрачную в темпоральном смысле коллекцию упражнений, более 36 упражнений. Они легли в основу удивительной мистериальной гимнастики графа фон Ботмера, которую мне захотелось раскрыть как текст, и мы занимались этим вместе с Лабораторией ангелической режиссуры, и именно в этом спектакле был проложен путь к моему уходу из театра. Эта гимнастика дала возможность мне раскрыть «Повесть о прямостоящем человеке» как спектакль об отношении человека и Творца, которое спрятано в иероглифах потрясающей красоты, вот этих созданных, открытых, пропущенных сквозь себя графом фон Ботмером упражнениях. Этот спектакль, поставленный нами с Юрой Хариковым, еще шел на сцене на Поварской, принятый и отмеченный моим учителем – Анатолием Александровичем Васильевым – как подлинная театральная красота. Мы еще не понимали, что он окажется последним спектаклем на этой сцене и больше там ничего, во всяком случае, с благословения моего учителя, не появится. Тогда он шел, но я для себя уже понимал, это последний спектакль в театре, сделанный мною.
Мы встречаемся с Гришей и понимаем, что мы не хотим делать никаких спектаклей, мы хотим совершить медленное, ничем не ангажированное путешествие в глубину священных текстов, и конечно нам нужен проводник. И Гриша предложил в образе проводника потрясающего рабби Мейра Шлезингера, выдающегося раввина, который при этом удивительным образом очень внимательно и точно умел работать с Россией. Мы оказались в таком проулке: с одной стороны огромная, не поддающаяся формулировкам территория священного текста, а с другой – казалось бы, уже пройденная мной территория огромного города Театр. И вот находясь между двух этих территорий на самом деле не сравнимых друг с другом, но соположенных с моей и Гришиной судьбой, мы оказались в этом проулке и вот там мы обнаружили нашу ЛабораТорию. И началась работа. Она началась с того, что мы взаимодействовали с разными фрагментами священного текста, искали путь через нарратив, это было целое исследование, оно у нас зафиксировано, и я уверен, что в какой-то момент я открою этот театр и эти этапы работы со священными текстами, первый и второй. Мы делали работы, мы исследовали, как и что происходит со священным текстом и с театром на территории их встречи. Это была практическая лаборатория, которая получила для нас внутренний жанр, мы назвали его семинар-репетиция. И ничему не подчиняли. Обычно семинар подчинен выговариванию какой-то темы уже ясной, а репетиция подчинена деланию спектакля. Ни там, ни там у нас не было этих окончаний, не было этого целого. За спиной и внутри меня располагался огромный опыт работы с «Садом», в первую очередь, где родилось понимание нового процессуального объема и направления в театре и даже более того, игры с темпоральной реальностью и тому подобные вещи. Я даже уже теоретически выговорил это множество разного рода позиций, и там существовал как обязательный момент новой процессуальности, проект, запущенный в эволюцию, то есть развитие, у которого нет финала. Но здесь работа с бесконечностью текста, отразившаяся в переживании бесконечности театра, она придала новые значения постигнутому в предыдущий период, как на территории экзистенциальной, моей жизни, так и в методологическом смысле.
В какой-то момент мы с Гришей поняли, что требуется обмен. И тому, что накапливалось в наших анналах, потребовалось выйти за пределы нашей работы, и мы придумали форму, которая называлась международный семинар, и даже тему выделили. Тема родилась из одного высказывания Анатолия Васильева, как бы отзыва. Гриша собирался с ним говорить о еврейском театре, о направлении исследований, связанных с Торой, а Васильев сказал: «Зачем евреям театр, если у них есть Тора». Прекрасная фраза. И мы решили эту фразу сделать первой темой международного семинара, на который пригласили раввинов, еврейские театры, которые работали со священными текстами. Так и сделали, так и поступили. Под Москвой в 2004 году, то есть как раз через два года… интересно, что ЛАР (Лаборатория ангелической режиссуры) и «Повесть о прямостоящем человеке» – все еще жили на Поварской… Мы им открыли этот международный семинар и отправились дальше под Москву в наш первый широкий круг общения, где мы в результате образовали Международную ассоциацию еврейских театров, интересующихся этой проблемой (театр, священные тексты). Так родилась очень интересная форма, в ней принимали участие самые разные люди. Надо признаться, что и большинство участников ЛабораТории имели косвенное отношение к иудаизму. Среди нас были христиане, о национальностях я уже не говорю, там был целый разлет национальностей, были буддисты, были люди неопределившиеся и так далее. По сути, мы жили арт-общиной, ни в коем случае не потревоженной какой-либо партийностью и какими-либо формами идеологии. Ничем мы не были потревожены, и так вот развивались. К нам приехала группа раввинов из Израиля, которые с удивлением и удовольствием восприняли эту стихию нашего интереса, прекрасно в ней расположились и одарили нас своей глубиной восприятия театра, глубиной восприятия текста, изысканностью и невероятным елеем, который проливался во всех сферах общения, коммуникаций. Всё это было прекрасно и в моем сердце продолжает жить как одно из потрясений моей личной жизни.
А ЛабораТория продолжалась, мы сделали то, что назвали «Диаспорической симфонией». Мы отправились в глубину каждого из нас и достали оттуда документацию внутренней жизни людей, соединяя это по пути с некоторыми отдельными фрагментами священных текстов, вот так же ни на что не претендуя в виде формы, или, тем более, законченного спектакля.
Показывали ее уже на втором Международном семинаре, перевалили в третий Международный семинар, который вырос постепенно из еще одного Гришиного проекта, который был связан с изданием лучших еврейских пьес на русском языке. В числе этих пьес с идиша была знаменитая часть трилогии Левика «Голем». Замечательный перевод. А вторая и третья часть так и не переведены, а ведь это потрясающая трилогия. Я знаком с ней по пересказам и отдельным фрагментам, которые мне изустно переводили. Так вот, а первая часть – это знаменитая его пьеса «Голем», которую даже в мюзикл в свое время на Бродвее превратили. То есть она по полной послужила развитию мирового театра. И мы потихонечку переместились из отношений со священными текстами (и это важный вывод) в некую среду, опосредованную прекрасным сознанием выдающегося драматурга и грандиозной легендой о Големе, которую он взял за основу. Мы знакомы через Майринка с «Големом», а на самом деле «глм» – это корень на иврите, обозначающий необработанный материал, необработанную болванку. И конечно глубина самого этого образа, этой легенды уходит в самые корни иудаизма. Мы даже ездили специально в Иерусалим, общались со знатоками текстов, со знатоками этого маршрута големического в глубинах истории иудаизма. Это обогатило нас очень серьезно и попало в какие-то бездны наших отношений с текстом. И в конечном итоге мы вышли за пределы легенды и стали слышать в этом какие-то глубинные основания стержневого характера. Мы работали над текстом вначале очень подробно, пытаясь не выходить за его границы, но это у нас не очень получилось, тогда мы стали выходить и выходить за границы этого прекрасного текста. И вот там, в этом исходе, из текста неожиданно для нас стала рождаться совсем еще неясная и совсем непредставимая в априорных переживаниях и замыслах форма, форма жизни театра, которую постепенно я назвал «НЕТ». Это «Новый Еврейский Театр», это не новый европейский театр, это не сеть. И это название сопровождается таким жестом: «Нет!» В этот момент как бы перерезаются все связи с предыдущим театром. Вот это самое «НЕТ» и есть «Новый Еврейский Театр». И оказалось, что в этом Новом еврейском театре формируются новые отношения между, например, спектаклем и текстом. Оказалось, что это не из текста рождается спектакль, а вот поверьте мне, и сегодняшний вечер во многом окажется посвященным этому простому смыслу, а из спектакля рождается текст. Я вдруг вместе с Гришей и со всей нашей прекрасной компанией ЛабораТорцев, это обнаружил, одновременно с этим над нашей работой поднялся тот самый неизвестный автор «Сада», который еще там был мною обнаружен (контакт с ним там просто зашкаливал). И вот этот неизвестный автор, это же конечно не книга Бориса Юхананова, это хитрый пиаровский ход, чтобы привлечь людей на громкое, но в принципе для меня лично уже мало что означающее имя Борис Юхананов. В нарциссический полет человек может отправляться, когда он по своему поводу уже успокоился. Когда он различает себя холодной или горячей частью общего пейзажа. Со мной это уже точно произошло, поэтому я не парюсь по этому вопросу. Но так или иначе неизвестный автор, который уже стал приобретать для нас черты Творца, естественно, перевернул отношения текста и спектакля, и определил вот эту основную позицию уже рождающегося некоего, по-новому нами переживаемого целого, которое так и звучит для нас в этой формуле. Спектакль пишет для себя пьесу. Но формулы всегда меньше того, на что они указывают. Потом прошло еще много времени, целый ряд этапов и, наконец, сегодня выходит вот эта коробка, прекрасно созданная, в которой семь дней, зафиксированные в узеньких книжечках.
Я бы не говорил, что это издание в восьми томах, это издание в семи книжицах и одной книжке, я бы так это сформулировал. Вот эти семь книжиц, в которых огромный опыт нашей работы, уже фиксирует написанную спектаклем пьесу. И вот это важно. Здесь есть определённого рода радость, что мы можем эту пьесу в такой коробке взять и поставить, положить на стол и предоставить чтению, восприятию, взаимодействию с пьесой, какой бы характер это взаимодействие не приняло в будущем. Это большая радость и заслуга всех здесь присутствующих людей: Ники, которая вместе с нами прошла весь этот путь; Гриши, о котором я только начал рассказывать, потому что потом, когда ЛабораТория, сделав цикл и завершив живую работу над «Големом», продолжилась, мне пришлось уйти, взяв на себя нагрузку создания Электротеатра, а Гриша продолжил движение внутри ЛабораТории, взяв иные тексты, и это была уже вторая стадия жизни ЛабораТории, к которой неожиданным образом подключился Ури, но как вы понимаете, нет никаких неожиданностей на тех путях, по которым мы отправились в путешествие в глубины иудаизма. Однажды мы оказались где-то под Москвой, Ури сам об этом прекрасно рассказывает, там мы в таком арсенальном принципе показывали наши лабораТорные работы. Среди тех, кто увидел их, был Ури. И вот произошла встреча, навстречу к нам вышел человек, давно думающий о множестве тех принципов, с которыми мы возились тоже. Он поделился с нами потрясающей историей и структурами талмудических построений и различил, что мы является Новым еврейским театром, собственно это различил Ури, а не мы сами. И благодаря его различению, его взгляду и глубине подхода, который он подарил нам в нашем общении в Иерусалиме, родился термин птихарт. Об этом термине и вообще об этой истории, я надеюсь, Ури сам расскажет.
А Юра Хариков, как это всегда с ним бывает, очень точно вошел, очень правильно услышал пейзаж и свойство уже зарождающегося спектакля, как всегда опередил его форму. Мы еще не доросли до нее и сумели воплотить малую часть того, что Юра предложил. Естественно были не только костюмы, но и пространство, и все это нас поджидает в будущем. Гриша, я хочу попросить тебя сказать несколько слов, и потом мы отправим этот микрофон к устам наших друзей.
Григорий ЗЕЛЬЦЕР:
Добрый вечер. У меня есть одна спекуляция. Сегодняшний день — это праздник Шавуот. Это день дарования Книги, день дарования Торы. По-моему, мы прекрасно его отмечаем. Мы готовимся, мы даруем книжицы. И мне кажется, что это правильно. Кроме того я хочу сказать, что есть вторая спекуляция. Это расположение людей здесь. За этим столом должна сидеть половина зала, просто если бы мы сели правильно, то тогда были бы пустые места, это было бы неловко. А на самом деле здесь присутствует множество людей, которые это путешествие прошли с нами, работа которых в этой книге собрана, Слава Цеплинский, Егор Моисеев, Андрей Островский, Таня Силантьева, Толя Загний, Андрей Емельянов, Саша Новицкий, Маша Манакова, Диана Таратута, которая очень помогала нам всегда. Ника, Игорь, Боря, Саша Белоусов, и, и, и…. Я считаю, что слово «арт-община» – оно, наверное, самое ценное в этом проекте. Это очень важно для меня, то, что мы умудрились каким-то образом вместе делать этот проект, при этом собачась, но не пособачившись, ругаясь, но не разругавшись, и что есть такая книжка в Шавуот. Спасибо.
Б. Ю.:
То, о чем говорит Гриша, это та самая общность, которую очень трудно достичь вообще во времени. И когда она достигается, возникают удивительные вещи. Они до сих пор меня заставляют концентрироваться на местности, которая мне кажется до сих пор неразгаданной, непройденной мною самим. И я все время, вступая в нее вместе с этим проектом «Архивирование будущего», сейчас вступаю в эти местности, я вижу, что они пройдены, казалось бы, артикулированы, но до конца еще не поняты, то есть все это именно располагается в будущем. Это даже не синергия, это не просто ансамбль как в свое время символисты говорили, нет, это что-то совсем другое, арт-община. Это что-то совсем другое, еще не выясненное и поджидающее в будущем нашу театральную культуру. А теперь я хотел бы передать микрофон Ури.
Ури Гершович:
Здравствуйте. Коль скоро мы занимаемся такой историей, я начну с рассказа о том, как мы встретились с ЛабораТорией. Я некоторое время, довольно долгое, работал в институте Штейнзальца, там существовали разные образовательные программы. Рав Адин Штейнзальц – один из очень известных раввинов, переводчик Талмуда с арамейского на иврит, популяризатор Талмуда. Действительно очень крупная величина и очень известный раввин. У него был такой институт, и сегодня он существует, правда сейчас его нет на русском языке (он долгое время существовал и на русском языке), который занимался популяризацией иудаизма, разными образовательными программами. Были такие программы как «Байт ле-мидраш» и что-то еще в этом роде. При этом надо сказать, что моя встреча с иудаизмом на самом деле сложная. Дело в том, что, по моей точки, зрения иудаизм скрывает в себе очень большой потенциал универсального, несмотря на свою партикулярность. Этот потенциал до сих пор не раскрыт, и в самой еврейской традиции не очень отрефлексирован и нуждается в этой рефлексии. Дело в том, что, с моей точки зрения, иудаизм – это достаточно амбициозный проект, который направлен, если коротко говорить, на становление особого типа человека. На человека, который находится все время в становлении. И вот этот режим становления – это на самом деле очень сложно, даже тогда, когда ты понимаешь и имеешь опыт фрагментарных озарений того, что ты вроде бы в этот режим вошел, и ты в нем находишься, и ты действительно превращаешься во что-то большее, чем ты есть. Тем не менее, превратить его в тотальность практически не удается. Потому что любой формат, который ты для себя открываешь, он тебя немедленно присваивает, он тебя немедленно захватывает, и ты оказываешься человеком, обслуживающим этот формат. И вот иудаизм содержит в себе определённые механизмы, которые позволяют этот формат все время отстранять, преодолевать, себя самого разоблачать как залипшего на нестановлении и заново становиться. Так, по крайней мере, я его вижу и, мне кажется, что, как минимум, талмудический иудаизм таким и является. И в этом смысле регулярная жизнь еврея, а тем более образовательные программы, которые направлены на популяризацию, они превращаются чаще всего, как и вообще все идеологические программы, в фашистские лагеря подготовки каких-то функционеров, людей, которые занимаются как бы непонятно чем, как бы к чему-то вроде бы приобщившись. Вот это «как бы» очень важно, потому что все эти формы очень легко можно сменить, можно сменить мундир партийного работника коммунистической партии на мундир партийного работника иудейской армии и так далее. Этих армий у нас очень много, они все время меняются, появляются новые, каждый из нас вступает в них, иногда выступает с кажущимся ему становлением, немедленно залипает, получает партбилет той или иной партии и дальше продолжает свою жизнь уже в этом режиме.
И вот жизнь на этих семинарах для меня всегда была немножко тягостной, не ваших семинарах, а семинарах по образованию людей, которые решили стать активистами еврейской жизни, так это называлось и называется сегодня. Плачевно было на это смотреть. Но я делал все что мог, преподавал, тоже имея, видимо, какой-то свой партийный билет. Вот в таком режиме, как я его называю, в режиме тумана, в котором мы же, вообще говоря, и живем, в этом тумане вроде бы все нормально, все хорошо, все течет по накатанному, кто-то получает зарплату, кто-то выполняет свои роли, в общем, все хорошо. И вот однажды на одном из этих семинаров, поскольку наш институт стал двигаться в сторону неформального образования, возникла идея пригласить ЛабораТорию, чтобы развлечь людей. Потому что есть культурная программа у этого семинара, и вечерком может быть покажут ребята сказку про дарование Торы, про Авраама и Исаака, и участники семинара вдохновятся, поаплодируют и удовлетворенные пойдут спать. Я помню, были очень долгие разговоры по поводу того, какую машину заказать, заказали самую дешевую машину, это был ПАЗик примерно 43-го года выпуска, и на этом ПАЗике в течение очень многих часов, потому что он ехал очень медленно, приехала эта театральная бригада для развлечения участников семинара. Там был не очень хороший зал с пыльным ковролином. Все люди расположились смотреть что-то еврейское и то, что они увидели, их ошеломило. И вот этот туман рассеялся. Тот туман, в котором мы все пребывали на семинаре, рассеялся для всех, но для всех по-разному. Люди негодовали, многие вскакивали, кто-то краснел, кто-то бледнел, сам организатор наш, поскольку решил не участвовать в этом, не знал, что происходит и считал, что все идет как надо. А шло совсем не как надо, потому что люди были просто в шоке. Они ничего подобного не видели. Борис Юрьевич, видя реакцию зала, после этого еще их как-то отчитал серьезно за толстокожесть и невосприимчивость. В общем, отшлепанные, они вместо спокойной удовлетворенности ушли в сильном гневе.
А что я увидел? Я увидел как раз становление. Это была реализация становления здесь и сейчас. Не приготовленное представление, не исполнение каких-то па или фигур, не что-то, что дается для того, чтобы развлечь или завлечь, это просто становление, которое происходило здесь и сейчас. И увидев это, я понял, что это и есть нерв того, что я называю иудаизмом, и понятие «община» здесь неслучайно, потому что иудаизм тоже направлен на общину, это формирование, это становление, которое происходит внутри общины. Трудно объяснить, почему так происходит, люди, которые ничего не знали об иудаизме, которые просто открыли тексты… ну просто открыть текст, вы сами понимаете… Я открываю упанишады и что? Ничего. Это замечательный текст, упанишады. Но дело не в текстах, а дело в каком-то импульсе, который, наверное, возникает именно как своего рода жажда этого самого становления. То есть по сути дела собралась компания людей, которые были одержимы этим импульсом становления, то есть самовозвышения, преодоление самих себя. Как это происходит, я не знаю, это загадка. Но, так или иначе, это проект, который в каком-то смысле начинался в области полной некомпетенции, оказался гораздо более близким к иудаизму, чем все эти семинары по иудаизму, в которых я участвовал, чем все эти образовательные программы, в которых я участвовал, чем всё, что происходит и сегодня. Все это не имеет прямого отношения к иудаизму. А вот этот проект, как ни странно, благодаря тому, что это была компания совершенно разных людей, и иудаизм вообще-то говоря, в своей внутренней идее это отнюдь не национальный проект, как я уже сказал, а универсальный, неожиданным образом именно там вот этот нерв иудаизма был схвачен. И сам проект удивительным образом двигался по примерно тем законам, по которым развивался иудаизм. То, что мы имеем сейчас как результат пьесы, написанной спектаклем, это в каком-то смысле тоже отвечает тому, что происходит в иудаизме с таким понятием как «Устная Тора». То есть Устная Тора – это корреляции вот этого самого священного текста и действительности. И на самом деле эта Устная Тора не должна быть записана, но в каком-то смысле это и есть некое действие, которое направлено одновременно на становление и понимание, действие, которое не обеспечено пониманием, стоящим сзади, а обеспечено устремлением к пониманию, которое оказывается перспективой этого действия, этого особого рода вида действия, когда я не знаю, что мне делать. Я делаю для того, чтобы узнать, что мне делать. Вот такого рода тип действия как раз характерен для иудейской традиции талмудической, и эта Устная Тора в каком-то смысле и является той самой пьесой, которую пишут иудеи, действуя. Правда, эта пьеса не должна была быть написана, и поэтому для меня, например, само это событие фиксации, оно очень радостное, но в том числе оно амбивалентное, то есть оно в каком-то смысле и трагическое. Оно свидетельствует об определенного рода завершении проекта ну или, по крайней мере, об определенной его стадии. Так же как запись Устной Торы это, в общем, драматическое событие в еврейской культуре, которое за собой повлекло целый ряд сложностей и новых этапов преодоления чего-то, чего раньше не нужно было преодолевать. Поэтому в этом смысле фиксация самой этой пьесы (ну, например, у кого-то может возникнуть соблазн – сейчас возьмем эти семь книжиц и поставим спектакль) – это будет совсем другой проект.
Б. Ю.:
Просто из Иерусалима это переместится в Мюнхен.
У. Г.:
Примерно так.
К. М.:
Хотела спросить, разве это могут играть люди, которые не являются участниками проекта?
У. Г.:
Почему нет. Я же могу взять это как пьесу.
К. М.:
Ну, вы же объясняете, что весь смысл в том, что комментарии…
У. Г.:
То, что я объясняю, это отдельно. Вот в этой книжке я объясняю. Семь книжиц это по сути дела пьеса.
Б. Ю.:
Я хочу раз и навсегда сказать. Это пьеса, это текст, любой художник, человек, любой национальности, в любой точке нашей вселенной, нашей галактики – я говорю это на очень дальнее будущее по поручению и от имени моих товарищей, написавших эту пьесу, подчеркиваю, что автор этой пьесы неизвестен, возможно, он в будущем вынырнет – имеет право ставить по этой пьесе, не выплачивая нам никаких авторских, он должен их выплачивать неизвестному автору, и делать с этим текстом все, что он захочет. Слышали меня? Приступайте!
У. Г.:
Такого рода ход, на самом деле, относится к совершенно другому роду проектов, которые могут иметь свои амбиции, свои перспективы и задачи, но это будут другие проекты. Удивительно то, что мотивом этого проекта стал «Голем». Сама эта легенда представляет из себя сермяжный миф иудаизма, потому что, как я уже сказал, иудаизм – это становление, а «Голем» – это необработанная болванка, которую нужно превратить в говорящего человека, то есть это делание человека из глины. То есть по сути дела это сотворение человека. Ну, это и есть не только иудейский, но и христианский, можно сказать, миф о сотворении нового человека, который бы смог заговорить в каком-то смысле. Поэтому это удивительные пути того, каким же образом творческий импульс, который толкает людей на подобного рода проекты, неожиданно очень точно схватывает нерв той традиции, к которой эти люди не принадлежали, но занимались ею несколько лет. Мне, чтобы разобраться с этими текстами, пришлось потратить лет десять. Я учился в ешиве шесть лет, это очень длинный путь исследования традиций. А здесь получилось так, что само движение… в эссе, которое предваряет эту книжку, я назвал это явление авраамической душой. Существуют авраамические души, которые устремлены к переоткрыванию того же самого проекта, которым является иудаизм, если хотите, монотеизм. И вот эта радость первооткрытия, радость маленького Авраама, который открывает для себя тот тип существования, который на самом деле свойственен этим древним традициям, это на самом деле удивительная вещь, которая меня в этом проекте поражала и продолжает поражать. Я пытался каким-то образом быть в меньшей степени зрителем, потому что такого рода позиция созерцателя для данного проекта просто неприемлема. Вообще этот проект, включая зрителей, на самом деле должен был вовлекать их в эту арт-общину, в этот способ существования, который я сегодня для нашего вечера условно назвал становлением. Можно было переживать это становление, в том числе, буквально не участвуя, не выходя на сцену. Но с другой стороны если ко всему происходящему отнестись как созерцатель (а я привык именно к такой позиции), то это не совсем этически правильно, и сам проект, само происходящее требует от тебя какого-то рода перестройки в этом смысле. Наверное, я остановлюсь на этом. Не буду дальше продолжать, хотя можно было бы находить еще параллели, вскрывать их между этим проектом и иудейской традицией, но в этом эссе, предваряющем книгу отражений, я постарался это сделать. Кому интересно, может там найти все остальные мотивы сходств и параллелей между этим проектом и иудейской традицией.
К. М.:
Ника, в интервью, ты говоришь, что эту книгу можно рассматривать как учебник по режиссуре. А мне интересно, какой практический смысл можно извлечь из книги, которой занималась ваша прекрасная компания?
Ника ВАШАКИДЗЕ:
Мне, наверное, сложно говорить про практический смысл, потому что тот опыт, который был в этом проекте, как я понимаю, довольно сложно описать. Я могу сказать взгляд человека, который пришел из города и не имел никакого отношения к иудаизму, но имел какое-то стремление к театру. Я пришла и увидела большое количество совсем разных людей, и что-то почувствовала, что-то важное там. Но при этом никакого театра я не увидела, а хотела я в театр. И к иудаизму я тоже никакого отношения не имела. И дальше я как бы обнулилась, при том я не была особенно чем-то полна, но умудрилась обнулиться. Я просто помню себя, когда не было еще сцены, это была просто комната еврейского культурного центра. Как сон. Я стою внутри работы, я не понимала ничего, я не понимала, что мне нужно делать, я не понимала, как играть, если я понимала в тот момент что-то об игре. Я просто стояла и все. И в этом была какая-то полнота в тот момент. Я как-то договорилась с собой тогда, что так можно, оказывается, просто стоять и не знать, где ты, и что происходит. Это такой мой опыт. Может он что-то скажет про то, как это начиналось.
На самом деле я об этом сегодня думала, даже написала какой-то пост в «Фейсбуке» по этому поводу, что этот проект, текст пьесы, кажется, что там есть много рефлексии, я начинаю вспоминать, и у меня возникает как будто бы какая-то рефлексия. На самом деле он на ней не делался. Совсем. При том, что там есть блестящие сцены, очень живые, очень реальные, которые касаются конкретных переживаний людей в тот момент, когда они что-то пытаются творить или делать. Монологи, диалоги. И они касаются жизни. А на самом деле это не свойство этого текста.
Я сегодня сформулировала три ключа, которые как-то помогут читать этот текст. Так как я очень много занималась его редактированием, то мне показалось это важным. Его можно читать совершенно свободно, но есть три ключа, которые мне показались важными. Первый, который касается рефлексии. Рефлексия связана с тем, что было в прошлом. Этот текст писался в будущее. В этом смысле любого типа описание опыта будет не очень адекватно. Этот текст он как бы отдельно. И то, что спектакль его написал, об этом говорит, а не наоборот, он отдельный от спектакля, от рефлексии, от опыта, он сам по себе. Это такой первый ключ, я не знаю, может быть, этот ключ тоже будет требовать какого-то ключа, но мне кажется это важный момент. Второй – эта пьеса очень много говорит о творчестве, о вдохновении, о создании, о творении, о живой энергии, о чем-то очень важном. Но этот текст не создавался на этом, он рождался совсем иначе, довольно трудно. Вдохновение возникает потом, вот сейчас, когда есть текст, а не тогда. Это довольно трудный был опыт. И третий момент, он очень прикладной. Этот текст не написан в одном времени, у него нарратив не построен прямо, он состоит из нескольких времен, как минимум из четырех. И все времена переплетены. Если в первом семь книг, это семь дней. Если в первом акте, в первом дне все довольно ясно и линейно вроде бы происходит (там есть два включения из другого времени), то в других актах этих включений из других времен становится все больше и больше. И в какой-то момент возникает такая полнота времен, когда уже можно не искать, где была основа. Это какое-то особое свойство этого текста, этой пьесы, этой драматургии, которое является его содержанием. Наверное, все.
Игорь КАЛОШИН:
Благодаря моим товарищам, которые здесь более-менее связно и концептуально все рассказали, мне осталось какие-то фрагменты изложить, которые мне кажутся важными, просто для примера чем это могло быть для девяностых, для двухтысячных годов, для человека, который ни сном, ни духом никогда не помышлял оказаться в театре, но, тем не менее, в него угодил. Я занимался рекламой, и у меня внутренне нарастало такое сопротивление к тому, что я делаю очень много, по 12 часов каждый день печатаю тонны бумаги для различных банков, для корпораций, и вообще эта деятельность заполняла все мое время, и в то же время я чувствовал, что это все является прахом, ничем. То есть я 15-20 лет отработал в рекламе и понял, что все эти замечательные издания не переживали дня, когда они были изданы, на следующий день они уже были никому не нужны. Чаще всего они делались к выставкам. И когда я попал в этот проект, я убедился, что можно заниматься историей Творца и творения, играть прах. До роли Мегамагарала, Творца я так и не поднялся за все три года, когда мы играли спектакль, все время играл прах, но, тем не менее, это оказалось нечто такое, чему можно посвятить жизнь и что должно, как мне кажется, быть интересным для людей. Хотя в то же время я ощущал, что это в какой-то изоляции делается. Что за люди, почему они приходят на спектакль, зачем они это смотрят, мне было искренне непонятно тогда. Я еще не знал, что готовилась концепция зрителя-потребителя, тогда были первые зрители, участники проекта. Это один маленький фрагмент. Кроме того, я получил множество ответов на свои внутренние вопросы в этом проекте. Например, для себя различил простейший вопрос: чем отличается креативное от творческого. Я для себя на этот вопрос ответить не мог. Креативное, объяснил мне Борис Юрьевич, это то, что можно придумать, а творческое это то, что выращивается как плод. Это свойственно иудаизму, это свойственно какому-то процессу, который должен быть обнаружен в почве, должен быть выращен, и он не может быть получен сиюминутно через пять-шесть-семь месяцев. И таким образом это все длится 15 лет уже, и для меня это день завершения проекта «Голем». Ну и я надеюсь на начало какого-то другого проекта.
Б. Ю.:
Когда несколько лет ты смотришь на своих друзей и соучастников, подельников по проекту, а дальше разражаешься чудовищной руганью по поводу того, что они делают и говорят, это и есть твоя функция и собственно благодаря этой функции и рождалось то, что потом стало текстом разных персонажей, о которых говорила Ника в том числе.
Как развивалась наша история? У нас был известный вам персонаж Николай Каракаш. Вы увидите его в фильме, он там важную роль играет. Ну, Коля как всегда участвовал-участвовал, получил роль Мегамагарала, а потом слинял. И мы оказались в ситуации, когда главного, очень важного персонажа… А роль Мегамагарала он получил, как бы вбирая в себя, в первую очередь, мою ругань и потом свои озарения. Но ругани было больше. И это было прекрасно, он отлично ругался. При этом он умудрялся это делать так, что я потом думал, что это я себе придумал персонажа, то есть такой тотальной пародии на мои гнусные свойства получить специально было нельзя. В этом смысле Коля выступал моим личным врачом. Видимо это занятие ему сильно поднадоело, и он слинял, и мы остались без Мегамагарала. А дальше, я уж не помню как, нас осенила идея всех превратить в Мегамагаралов, и теперь каждый имел возможность поругать себя и остальных в виде развития. Таким образом стали рождаться новые персонажи, например, Редактор. Там их много, этих персонажей, я сейчас всех не помню, но они прекрасные. Я помню, Саша Новицкий, брал на себя активную роль. Моя функция была ругаться, я ругался, как мог, видимо это не только функция, но и миссия в жизни была в то время.
У. Г.:
Отвечая просто еврейской традиции, так там все и происходит.
Б. Ю.:
Вот видите.
У. Г.:
Мы инсценировали все, что происходит.
Б. Ю.:
Да, я про это естественно ничего не знал. Просто это наружу просилось, это было единственное полностью наполняющее меня чувство – страшно орать на всех участников проекта и в том числе на самого себя, которого уже играл Коля. Вот этот ор взял на себя Саша Новицкий. И дальше пошло. И постепенно эти слои ора, это точно не рефлексия, это ор, они накапливались, и таким образом сложилась пьеса, которую вам предстоит поставить, участники вселенского заговора, я к вам обращаюсь. Вот, друзья, простая очень технология.
А вначале была наша поездка на фестиваль, в чем-то даже нами инспирированный, хотя конечно не полностью, в еврейский театр в Вену, где мы уже стали писаться. Вы увидите в фильме моменты всех наших писаний. И после того, как мы вернулись, уже с Юрой и Гришей шли диалоги, что же это может быть за пространство. Я помню, там мелькали коврики, шатер, потому что мы, евреи, как вы знаете кочевники, земледельцы. Это вы все знаете, но это ничему не соответствует. Короче говоря, мы как бы кочевье такое разрабатывали. А потом уже после возвращения вот из этого почвенного говна, которое мы называем иногда своим именем, иногда глиной, стала разрабатываться вот эта форма костюмов, это сложнейшая, огромная, тончайшая работа, которую производил Юрий Федорович, открывая структуру костюма, структуру материализации персонажа. И вот в эту секунду я и передаю ему микрофон.
Юрий ХАРИКОВ:
Поскольку мне отведена роль положить конец всему, что было произнесено, я не буду многословен. Говорить о моей работе, которая была связана с этим проектом, особенно много нечего, потому что, к сожалению, в то время мы не имели тех возможностей, которые мы имеем сейчас, и все это осталось замечательно нетронутым в своем замечательном и нетронутом качестве, в виртуальной реальности. Хотелось отметить очень важное, то, что произнес Ури, собирая это в одно понятие «становление». Это, пожалуй, самое главное, произнесенное за сегодняшний вечер качество, которое можно отнести целиком и полностью к тому состоянию представления знаний о театре, которые существуют на сегодняшний день. Собственно говоря, это и есть, может быть, основное состояние всех людей, которые так или иначе причастны и к этому проекту, и ко всем будущим образам действий всех тех людей, которые знакомы с нами или не знакомы. Это становление представлений о театре. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день менее всего по этому поводу могут сказать об этом сами люди, участвующие в театре. А становление и обретение реального знания, понимания, и в соответствии с этим обретение свидетельства в работе, – вот этот процесс чрезвычайно важен сегодня театру. Вот, пожалуй, и все.
И. К.:
Пока мы тут беседовали, вот подошли еще наши товарищи – Сережа Степанищев и Мария Манакова, участники проекта. Еще я хотел сказать о совершенно незапятнанных людях, которые не получили радости участия в проекте, но при этом здорово нам помогли с книжкой, дизайнер этой книги Валерий Козлов и Павел Шайкин. Паша, спасибо огромное, что ты, не имея никакого отношения к проекту, все быстро понял и сделал как нам нужно и не прекращал с нами сотрудничество до самого последнего дня.
Б. Ю.:
Сейчас мы сделаем перерыв, и дальше отправимся в путешествие фильма, который сделал Саша Белоусов вместе с прекрасным монтажером Димой. Они об этом скажут коротко в начале. Это большой фильм, я буду счастлив, если вы его посмотрите. Фильм сделан на основании не всего вообще проекта-спектакля «Голем», который писал пьесу, а именно первых его времен, которые уже состоялись на границе между Веной и театром «Школа драматического искусства». Он будет состоять из трех частей с двумя перерывами, и я хотел бы призвать вас уделить этому фильму максимальное внимание. Первая часть нашей встречи закончена. Я благодарю вас за участие в ней.