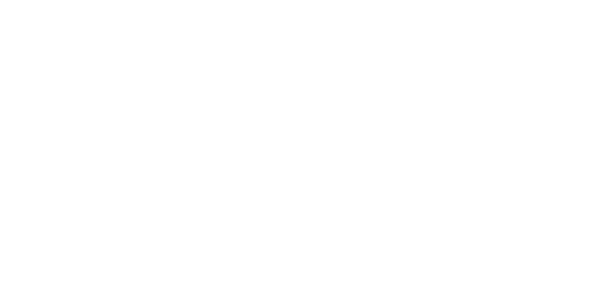Магдалена Штерянова: Вас определяют, как одно из главных действующих лиц параллельного кино. Вы сами не относите ваши видеороманы к киноискусству, а определяете их именно в категорию видео. Скажите, где проходит грань между видео и кино?
Борис Юхананов: Я начну издалека. Параллельное кино возникло в России в середине 1980-х годов, когда братья Алейниковы собрали воедино разношерстную компанию кино- и видео режиссёров и стали издавать самиздатовский журнал «Сине Фантом». Мы встретились с ними как раз в это время, когда все существовали в ожидании какого-то прекрасного будущего (иллюзий). Под воздействием этих иллюзий рождалось чудесное совместное творчество. К моменту встречи я снял один короткометражный фильм во ВГИКе на 35 мм. А потом уже мне в руки попала видеокамера и передо мной открылась бездна возможностей. Я с ней практически несколько лет не расставался. В последствии я участвовал в редколлегии журнала «Сине Фантом». Я писал теоретические статьи о видеоискусстве, и создал видеороман «Сумасшедший принц»*. В дальнейшем я продолжил заниматься, как кинематографическими проектами, так и видео.
Отличие видео от других медиа заключается в том, что это — большая метафора. Это некий инструмент, который одновременно пишет звук, цифрует реальность и фиксирует поток реальности. Он одновременно видит ее и всасывает в форме изображения, создавая неизменную непрерывность действия. Сам момент, когда ты впервые нажимаешь кнопку, а потом разворачиваешься в сторону бесконечности, и определяет различие между видео и кино. Я выведу две категории: модель и макет. Кинематограф макетирует реальность, для того, чтобы был создан фильм. Делается это при помощи самых разных инструментов: сценария, априорно фиксирующего будущее фильма, света, репетиций, в подходах к осуществлению эпизода, к разделению записи звука от изображения и так далее. Все это я собираю в термине «макет». А видео — это скорее модель, это некое «впускание» в себя реальности и постепенное выведение ее на модель происходящего процесса. В этом смысле реальность и ее перформативное начало невероятно интенсивны. Далее происходят моделирующие акты, которые дают возможность искусственному началу любого художественного акта поступить в естественное раскрытие реальности при помощи инструмента видео.
Парадоксально, но видео более архаичный инструмент, чем кинематограф. Можно это так же объяснить на примере текста и речи. Видео принадлежит сфере речи. Речь — это что-то незавершенное, но стремящееся к развитию. У видео похожий потенциал развития. В моих текстах есть понятие «матрицы»** — это тот самый предел, в котором разворачивается процесс видеоречи. Дальше матрица отправляет нас в приключения монтажа, создания вариаций. Все остальные важные особенности процессуального творчества, которые связаны с актером, сценарным нарративом, светом, пространством, временем — все они невероятным образом меняются при этом переходе от кино к видео и обратно. Играть с самим актом этого перехода из одного вида искусства в другой тоже очень интересно. Я по-своему с этим играю в своих главах видеоромана.
М. Ш.: Можно ли сказать, что фатальный монтаж***, можно также использовать и в кинематографе?
Б. Ю.: Нельзя. именно потому что это техническая особенность камеры Video 8. Если такая особенность есть в других камерах, то можно. Я создаю матрицу* на протяжении нескольких дней, а то и месяцев, и пишу непрерывный поток, особым образом инструментированной реальности. А дальше я по отношению к себе поступаю очень жестко. Я как бы себя начинаю вычеркивать. То есть, я опять с этой же самой камерой, в которой спрятана уже отснятая часть реальности, начинаю монтировать при помощи собственной жизни, творящейся во время этого процесса съемки. А как, у меня же там все заполнено? Для этого я включаюсь в особый режим участия. Я помню, что у меня там было отснято, и когда передо мной новый кусок реальности, и я им «вышибаю» предыдущий, который был записан ранее. Это не палимпсест: предыдущий слой навсегда уничтожен и на его месте оказывается новый. По сути это и есть монтаж.
Потом я снова прохожу до конца матрицы, после чего получаю следующие импульсы и начинаю «резать себя по живому» еще раз. И так до тех пор, пока во мне не кончится импульс. Как будто находясь в неком акте любви с реальностью, я останавливаюсь, чтобы не плодить фиктивно. И вот, у меня единственный, без каких-либо дальнейших вариаций фильм «Сумасшедший принц. Японец» (так, например, была написана эта глава). Это краеугольным образом отличается от того метода, которым я работал по созданию матрицы. Я наоборот тщательно хранил записи, теперь еще и оцифровал, и все они живут, огромные, зафиксированные мною потоки реальности. В зависимости от моей жизни, времени и желания я могу плодить вариации, то есть заниматься с ними вот этими художественными актами до бесконечности. При этом изначальная матрица сохраняется. Сейчас удивительно благоприятное время для жизни, совсем иное, чем в трагической истории фатального монтажа.
М. Ш.: Что происходит с теми моментами, которые вы «вышибаете» из отснятого видеоматериала?
Б. Ю.: Они уходят в небытие. Это как в музыке: в музыке реальность поступает прямо в меня, возникает живое взаимодействие, и я понимаю, что сейчас произойдет акт самоотречения, «вышибания» реальности, и я его совершаю. Как я это совершаю? Не под воздействием рациональных вещей, скорее все вместе в этот момент участвует.
М. Ш.: То есть алгоритма «вышибания» нет?
Б. Ю.: Никакого алгоритма нет. Это живое письмо, как в графике или как когда художник вдруг стирает фигуру и пишет новую. Он стер ее, ее вообще нет, он не записал поверх нее, а взял мыло и губку и стер навсегда. Это не вычеркнуть и не оставить в скобках, как часто поступали постмодернисты, а это — стереть. Это демиургический жертвенный акт.
М. Ш.: Это часть энергии, которой в итоге «заряжен» фильм?
Б. Ю: Вот это уже скажет мне тот, кто будет его смотреть.
М. Ш.: Относительно ваших видеоработ: вы живете в формате, который создаете, или же формат живет внутри вас?
Б. Ю.: Получается, и то и другое. Тут надо ввести еще одну категорию — видеокентавр. Это связка особого рода, присутствующая в чистом и абсолютном виде только в видео (иногда в документальном кино или в театре). Например, актер или несколько актеров, которые движутся вместе со мной, создают связку. Реальность и видеокентавр (то есть тот, кто держит в руках камеру) связаны, как наездник с лошадью. И вот этот наездник подчас понукает кентавра или «на ушко» уговаривает его двигаться в ту или иную сторону. Кентавр тоже может двигать наездником. Эти векторы переплетаются друг с другом в сложном танце самого акта съемки. Возникающая реальность или позволяет прибегнуть к высокому паразитированию, вводя туда линию идущей съемки, никак с этой реальностью не связанной, и в этот момент провоцировать ее на участие в съемке, или наоборот по пути перекодировать ее и пересоздавать, сохраняя в себе сам этот акт пересоздания как часть матрицы. Здесь могут быть разные режимы, что как раз и радует в возможностях видео.
М. Ш.: В одном из ваших теоретических текстов вы вводите понятия «видеооко», «видеорука» и «видеотело». Расскажите об этом подробнее.****
Б. Ю.: Это внутренний тренинг, который я применял по отношению к себе и по отношению к некоторым своим ученикам, скорее описывающий дегустационные свойства самого этого процесса. Когда я приставляю камеру к глазу, то я оказываюсь с ней, как бы, единым существом, который одним глазом смотрит «сквозь». Это особого рода симбиоз или бионика или то, что предстоит человеку, когда его «зацифруют» всего, и у него окажется глаз плюс механизм, мыслящий вдобавок. Когда у тебя камера в руке — это совершенно иное взаимодействие с реальностью. Ты наоборот смотришь двумя глазами, но рука твоя становится частью видео, а видео частью руки. «Видеокарате», я так это называю. Потому что, как и в карате — это близкие техники. Все остальные места человеческого тела точно так же вступают в симбиоз с механизмом, тем самым преодолевая механистичность механизма. И все это может быть частью режима съемки.
М. Ш.: Когда вы работаете с оператором, могут ли применяться эти понятия?
Б. Ю.: Когда я работаю с оператором, то оператор становится частью симбиоза, в который я вступаю с ним. Человек — это более сложный тип симбиоза. В кинематографе ты должен отпустить оператора, он не может находиться с тобой в симбиозе. Более того, ты не должен рулить его сложнейшей системой мышления. Ты можешь предложить ему некое рассуждение, связанное с оптикой или с алгоритмом его действий, но потом, в реальности, ты не контролируешь его действия. Это его, начиная с мускульного и заканчивая его психофизическим аппаратом, дело — осуществлять эту съемку, а ты ее получаешь, как факт случившегося. Это тот тип диалога, который свойственен сегодняшнему кинематографу, даже при том, что кинематограф использует цифровую технику.
М. Ш.: Я бы хотела вернуться к «Сине Фантом». Если бы «Сине фантома» не было, что было бы с Параллельным кино? Было ли бы возможно его существование?
Б. Ю.: Нет, это было бы невозможно. Это единое пространство. «Сине Фантом» — это капля спермы, из которой все возникло. Если бы не случилось встречи родителей, то какой был бы ребенок? Да его бы не было. Это неразрывная единая плоть. Это именно исток. Люди просто бы снимали разрозненно фильмы, и как это часто бывает, сцеплялись в тех или иных комьюнити. Но Параллельное кино не возникло бы как единство целого во всем разнообразии частей. Ведь подлинный бренд возникает под воздействием сил судьбы, а не просто, когда так захотелось.
М. Ш.: Вы часто пишете о мире под названием Москвапитер. Что это было за отношение, и насколько это было реально?
Б. Ю.: Тогда это была отдельная история, сейчас это так уже не работает. Потому что эта связка, эта коммуникативная гантель возникла не в 1980-е годы, она образовалась в истории России, и ей больше 300 лет. Коммуникация двух столиц всегда претерпевала изменения, с их бесконечной разницей и единством, с постоянными переездами тех или иных людей или даже событий из одного места в другое: это специфика российской истории. Я просто принял это в актуальное пространство своей жизни в 1980-е годы и различил это. Начиная с 1990-х годов с этим равенством происходит очень серьезное искажение. Когда Питер стал огромным количеством своих прекрасных героев перемещаться в Москву, баланс весов этих нарушился. Возможно, он восстановится. Сейчас я слышу какие-то тенденции к восстановлению этого очень плодотворного баланса для всей российской культуры, в частности и для Параллельного кино.
М. Ш.: Я согласна. Мир, изображенный в «Сумасшедшем принце», его сейчас как будто бы и нет. Там он выглядит настолько гармоничным и реальным, что воспринимаешь все, как единое пространство.
Б. Ю.: Конечно. При том что часть эпизодов снята в Питере, а часть в Москве. Это особого рода удвоение. Меня тогда, в 1980-е годы, очень интересовала эта игра с раздвоением и удвоением: то есть в одном случае ты делишься и по пути теряешь единство, а в другом случае ты умножаешь себя на самого себя, и ты в итоге обретаешь выделенную тебе судьбой временем историей жизни полноту. Это именно общее пространство, при всех различиях, которые были. Надо признаться, что это мы можем видеть и в российской литературе. Мы часто говорим: Москва Чехова, Питер Достоевского, Москва Куприна или Москва Льва Толстого. А на самом деле эта «Москвапитер» абсолютно созрела, как единое место обитания или общий топос именно в 1980-е годы. Внутри него все мы жили, любили, дружили и работали, потому что образ жизни был очень сильно связан с нашим искусством.
М. Ш.: И они друг друга дополняли?
Б. Ю.: Да, да. Они были неразрывными частями целого.
М. Ш.: Вопрос, связанный с будущим: то что вы и другие режиссеры Параллельного кино делали в 1980-е годы, было очень инновативным, чем-то абсолютно новым. Конечно же это искусство имело большой потенциал. Как вы думаете, развился ли в наше время этот потенциал?
Б. Ю.: Он не развился. Он был практически не реализован. Потенциал Параллельного кино реализовался на 5% в лучшем случае, в силу того, как развивалась Россия после перестройки в 1990-е, нулевые и десятые годы. Парадокс заключается в том, что, например, сейчас в российском кино происходит своеобразная по невменяемости деятельность. Параллельному кино не свойственна была чернуха в силу концептуальной воспитанности людей. Наоборот, ему была свойственна невероятная продуктивная и в то же время светлая энергия. Например, некрореализм: Женя Юфит был протагонистом этого направления. Его и всех остальных объединял не стиль, а отношение с государственным искусством. Прекрасный скомороший задор смерти реализуется в очень высокой суггестии света. А с 1990-х годов и сейчас производится так называемая «чернуха». Часто это отражение накопленного социального или экзистенциального отчаяния, с которым художник не справляется. Или же это прямое сопротивление, что вообще свойственно искусству. «Чернуха» должна быть преодолена и замещена новой свободой от форматов.
В 1990-е годы я заговорил о нонформатной революции. Формат — это агент инерции, который поселяется в сознании и заставляет служить уже несуществующему. Преодоление инерции, ее обнуление — это то, что существует сейчас в виде пандемии. Здоровье, которое вдруг начинает созревать в эпоху тотальной болезни, может заново продуцировать какие-то интересные процессуальные акты. Новая процессуальность, как искусство, практика и инструмент готова к движению с нуля. Иногда я это называл «фундаментальный инфантилизм» или «эпоха зарождения». Сейчас она наступает, потому что это расставание с иллюзиями, в чем бы они себя не проявляли. Органическое начинает расцветать. Оно избавляется от воздействия инерционных свойств человеческого сознания. Ведь формат на самом деле не естественен. Это такое изобретение, когда искусственное, при чем дискредитированное, вмешивается в естественную тайну развития событий. Нулевая территория чиста и готова к принятию новой органики и новых типов симбиоза с искусственным. Это вызов искусственному, в чем бы оно ни выражалось: в стратегии, механизме, изобретении или в намерении. Это очень интересно.
Новопроцессуальное искусство связано со следующим утверждением: правила не просто переживают свое установление, они всегда готовы к своему исчезновению и заменой новыми правилами. То есть правила образуются во время игры, а не детерминируют собой всю игру. Образование правил во время игры (индуктивная игра) — очень важная позиция в новопроцессуальном искусстве, и она сказалась и в том, как я писал свой видеороман.
М. Ш.: Ваша деятельность в Электротеатре: можно ли назвать ее развитием или логическим продолжением того, что было в 1980-е годы?
Б. Ю.: Конечно, да. Это огромный новый этап все того же процесса. Это полновесное продолжение, во всех смыслах полноты, которое кроме логики имеет еще что-то, что в принципе находится в другом месте. Обнуление — это часть пейзажа, через который течет река. Это событие в пейзаже, а не в реке.
М. Ш.: Хотели бы вы что-то добавить в заключение нашего интервью?
Б. Ю.: В заключение хочу пожелать журналу и вообще вашей прекрасной и замечательной инициативе, которую я слышу через вас, через деятельность Изабель и самого издания, чтобы она продолжалась. В ней существует потенциал создания новых коммуникаций, то чем сейчас и будет занят во многом наш мир. Я уверен, что наше взаимодействие может продолжиться и привести к каким-то, сейчас не представимым для нас результатам. Спасибо вам за ваше внимание к нашему творчеству.
* Отрывки из легендарного видеопроекта Юхананова, снятого в конце 80-х годов, смотрите здесь.
**Матрица — весь отснятый видеоматериал, но не смонтированный.
***Борис Юхананов использует термин фатальный монтаж для описания техники, возможной благодаря функции видеокамеры, когда старые кадры необратимо заменяются на новые. См. лекцию Юхананова 1989 года.
****(Борис Юхананов, Теория видеорежиссуры)