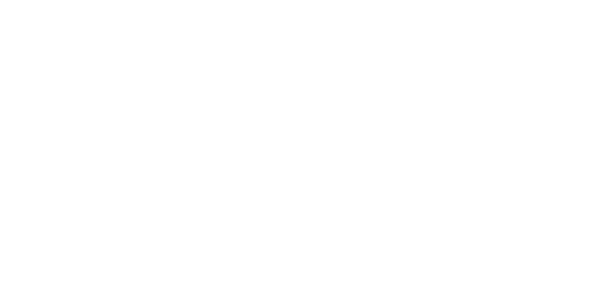С режиссером Борисом Юханановым беседует Арнис Ритупс
Я хотел бы, чтобы ты разобрал рассказ про сад Эдемский. Для этого я должен тебя попросить прочесть историю из книги Берешит – или книги Бытия, в христианской традиции.
Изгнание из сада?
Давай начнем раньше.
Хорошо. От начала 2-й главы и до конца 3-й?
Да.
Ну, давай мы посмотрим. (Читает.)
«[…] И нарек человек имя жене своей Хава, ибо она была матерью всего живого. И сделал Господь Б-г для Адама и для его жены платья накожные и облачил их. И сказал Господь Б-г: Вот человек стал как единственный из нас в познании добра и зла. И ныне, как бы он не простер свою руку и не взял бы также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно. И отослал его Господь Б-г из сада Эдемского возделывать землю, откуда он взят. И изгнал Он человека и поместил к востоку от сада Эдемского керувим и с огнелезвием меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни».
Спасибо.
Пожалуйста.
Скажи, ты понимаешь этот текст?
Ну... Я бы не сказал, что я его понимаю. На уровне пшат, что называется, я могу его понимать как нарратив, как событие происходящее в картинке. А вот уже дальше, если перейти к другим уровням, например, ремез или драш, и тем более к уровню сод, уже будет возникать очень много вопросов. И тогда, конечно, станет важным знание иврита, которое мне не дано. Поэтому на этих четырех уровнях – это называется «пардес» – я бы поостерегся даже близко сказать, что его понимаю.
Хорошо. О чем этот текст?
Опять же, все, что я буду говорить, это просто какие-то инсинуации моего индивидуального сознания здесь и сейчас. Но все-таки с этой оговоркой я что-то могу говорить в ответ на твой вопрос.
Пожалуйста.
Вообще, как мне кажется, священный текст не про «о чем?», он вообще устроен иначе. Он определенным образом предлагает мне правила жизни и правила мира. Он является не сообщением в античном смысле о том, как устроен мир, а инструкцией. Инструкция не про «о чем?», а про то, что надо делать, как надо действовать.
Инструкция по пользованию миром?
Да. Если уж мы говорим о саде, то вся Тора, на мой взгляд, – это инструкция по тому, как вернуться в этот самый сад, из которого человек, скажем так, выпал.
Был изгнан, не выпал.
Ну, нет. Все-таки выпал.
Это важно?
Да. Потому что я все равно не могу лишить себя возможности слышать иную структуру, которая открывает во мне этот текст. Она во мне есть, но она есть во мне слишком в общих чертах, в общих представлениях. Это иная структура, и мне она передается без каких-либо нюансов. Это все-таки структура, связанная с содом, с каббалистическим взглядом на этот мир. Если ты мне предложишь, например, остаться на уровне пшата, то тогда у нас много свободы для интерпретации. Но сод, четвертый уровень, не оставляет свободы для интерпретации. Текст живет на четырех уровнях, мы это должны признать. Более того, живет он не в нарративной пунктуации. Реальный текст непрерывно льется, там нет ни промежутков, ни запятых, ничего. Нет названий. Это просто льющиеся буквы.
Ты считаешь, что это изначально так?
Я не считаю, я тебе традицию передаю.
Я тоже немножко с ней знаком, и то, что между словами есть пробелы...
Нету пробелов между словами. Они непрерывны.
Но у нас не сохранилось ни одной рукописи...
Я не готов, честно говоря, уходить в этот спор, чтобы зря не молоть языком.
Не надо.
То, как во мне это живет, – это непрерывное, единое слово из сменяющихся букв, которое просто непрерывно течет. Все остальное уже привнесено туда в те или иные времена после получения этого текста. Так он и был получен. В этом еще одно его свойство. Он настолько удивителен, что нам хочется его интерпретировать, что само по себе прекрасно. Нам хочется его познавать. Не в смысле интерпретации – о чем он, а в смысле познания той инструкции, того мира и того обращения с собой, на которое мы можем решиться в данный момент нашей жизни. Нам хочется его услышать, извлечь оттуда правила и двигаться в сторону совершенствования этих отношений с процессом извлечения. Это, конечно, удивительно, что текст продолжает себя структурировать. Он разделился, стал ясным нарративом, получил свои запятые, точечки над буквами, воплотился в греческий, потом во все языки мира. Труд перевели на 70 языков, и его в результате стали принимать.
70 языков?
Рассказывается, что перед тем, как дать Тору еврейскому народу, Творец обратился к 70 народам. Они отказались, и тогда... Но в результате, что само по себе удивительно, они стали его принимать каждый по-своему. И тем самым они его стали творить вместе с еврейским народом.
Но принимать не как текст, а как...
Принимать во всех смыслах этого слова. То есть они его стали принимать в себя, они стали с ним соотноситься. Он их поставил на путь становления. Одни очень интенсивно это делают, мы это видим через христианство. Другие это делают постольку, поскольку у них есть свои тексты. Они, как им кажется, живут в своей системе координат, но они соотносятся. В общем, так или иначе возникает общий узор, который творят эти народы.
Скажи, ты можешь на этот текст, помимо четырех уровней и традиционного взгляда, посмотреть как на драматургический материал?
Да, я пытался это делать. Знаешь, моя история отношений именно с наивной попыткой интерпретировать этот текст, переводя его из книги в...
Действие?
Ну, в возможности создания театра. Так назывался проект – «ЛабораТОРИЯ». И я довольно долго этим занимался, беря разные главы.
В том числе и эту?
Эту не брал никогда. Потом я отказался от этого процесса в силу собственной наивности и больше этим никогда не занимался. Я обратился к мифологии, к легенде. Например, к легенде о Големе. И тогда я стал интерпретировать драматические тексты, которые связаны с этой легендой, и саму легенду, возводя ее в степень мифа.
А почему и как открылась эта наивность?
Именно потому, что я вдруг понял, что не имею дело с нарративом. Я имею дело с чем-то, что не рисует передо мной действия, фигуративность какую-то. Что это вообще все иное. Но туда без помощи книг или раввинов, или знатоков Торы, которые нашли в себе время чуть-чуть очень дистанционно, осторожно открыть передо мной этот способ чтения, традиционный... Трудно сказать, до или после я остановился в этом процессе, но я стал чувствовать, что если пойду дальше, то это будет профанация.
Если бы ты посмотрел на историю в саду как на драматургический сюжет, это была бы профанация?
Конечно! Однозначно.
Объясни почему. Потому что на слух в том, что ты читал, есть разные драматургические моменты, конфликты, повороты...
Ну, первое, где начинается профанация – Творец персонализируется. Творец! С постижением Торы для меня это извращение, я просто не могу так о нем думать. Я не могу его персонализировать, он для меня непознаваем. В эту секунду все остальное становится профанацией. А второй момент – мне не кажется, что это о чем-то снаружи меня. Мне кажется, что это всё внутри меня происходит.
То, что ты прочитал, – всё внутри тебя?
Да. И это не происходит – это силы, работающие внутри меня. Так я это стал ощущать. А потом я нашел этому подтверждение, и очень серьезное, убедительное для меня, в традиции.
То есть в тебе и змей, и сад.
И Ева, и Хава, и ребро.
И запрет?
Естественно! И запрет, и нарушение запрета, и, более того, это происходит постоянно. То есть второй момент заключается в том, что здесь нет времени. Оно как бы постоянно во мне.
Постоянство – это как картинка?
Это не время. Здесь нет дифференциации на времена – прошлое, настоящее, будущее, –без которой ту драматургию, о которой ты говоришь, выстроить невозможно. Но я имею опыт работы с садом, никоим образом не опирающийся ни на какую традицию, потому что по каким-то причинам в конце 80-х годов я стал заниматься мифом о саде. Естественно, не взятым из Торы – я просто интуитивно на это вышел. Как только я стал заниматься этим мифотворчеством, художественным, очень свободным, с прекрасной компанией молодых людей, я понял, что сад неуничтожим. Это первое утверждение. Причем я все это вытащил из «Вишневого сада» Чехова – это просто потрясающая хрень. Как только вместо Чехова передо мной оказался соблазн создания мифа, я сразу же стал понимать, что там нет времени, что это вневременная территория, а значит, времена живут сумасшедшим образом. Это я про драматургию. Дальше я 11 лет этим занимался. И я понял, что даже перфекты английского языка – будущее, еще не наступившее, и так далее – это слабые веяния того, что на самом деле существует, происходит с временами во вневременном пространстве, вот этот парадокс. Они практически шалят. Вот это баловство времен можно представить себе как мистериальную драматургию.
Я не зря выбрал этот текст, это связано с тем, что ты 11 лет занимался садом и мифотворчеством вокруг сада. Но тут перед тобой предстает первый сад.
Естественно, естественно. Но я сад без нарратива брал, понимаешь? Я сад брал как пространство неуничтожимого счастья. Первый переход, где мне говорили про красоту. В этом была моя contemporary игра. Я не забирал его из священной книги – наоборот, тот сад, который был предложен Чеховым, я стал сакрализировать при помощи собственной интуиции, это совсем другая художественная стратегия. И в этом смысле я не оказался в том, что мы сейчас условно, как предмет разговора, называем нарративом. Нарратив весь я собирал из Чехова, а миф о саде взращивал свободно от него.
Не имея этого...
Этого нарратива, так называемого, вообще в виду. Это была интуиция сада.
Твоя интуиция совпала с некоторым прочтением этого сада.
Но для этого мне потребовалось выйти из проекта «Сад», сделать маленькую паузу, суть которой заключалось в том, что я с театром расстаюсь. И в тот момент, когда я с ним расстался, начал работать узор жизни, который всегда мне сигнализирует о чем-то важном для меня. И вот вместе с этим узором жизни я вступил на тропу «Лабора», от латинского слова. Соответственно, так образовалась «ЛабораТОРИЯ» – работа Торы. И я на какое-то время откинул от себя, забыл, в той или иной степени, я постарался отделиться от своего опыта.
Театрального?
Проекта, работы...
А выйти во что?
Расположиться между театром и священным текстом. Не находиться полностью внутри театра, а расположиться в маленьком переулке, который я назвал семинар-репетиция. Мы пытались читать священный текст, к нам приезжал рабби, который рассказывал, который установил у нас древний режим бет-мидраша. Рабби звали замечательно – Меир Шлезингер. Огромный, совершенно замечательный рав. А мы дальше, продолжая свое цап-царап – абсолютно, надо признаться, свободное чтение, –вот каким аппаратом были наделены. Так мы его и читали, абсолютно как дети. А дальше мы превращали его в театр, применяя все те изощренные, как мне к тому времени виделось, способы театрализации любого текста и выхода за него. На семинаре мы обсуждали этот текст и интерпретировали его очень свободно, а на репетиции мы исследовали возможность превращения его в игру, то есть в театр.
И ты через несколько лет пришел к выводу, что это нетеатрализуемо?
Нет, он театрализуем, но то, что получалось у нас – даже иногда очень выразительные вещи получались, и много интересного, – все это оказалось для меня самого на грани профанации, и я от этого отказался.
Ты еврей?
Конечно!
Ты всегда себя осознавал как еврея?
Нет.
Что случилось?
Вот это большой вопрос. Если ты реально спрашиваешь, то я реально отвечу. Это началось у меня поздно, лет в 16, причем абсолютно независимо от среды. До этого, в 70-е годы, я жил в московской среде, причем в очень такой странно организованной. Она состояла из множества пластов, и, с одной стороны, у меня там были приятели дети членов Политбюро, космонавтов, знаменитых актеров, со всеми выходящими отсюда последствиями, а с другой стороны, я писал стихи и занимался театром в самых разных кружках самодеятельности. В принципе это несовместимые вещи, но я их совмещал. Плюс еще все время менял школы, был таким типичным московским распиздяем. А это именно этой смесью и характеризуется: когда такая смесь создана, возникает вот это качество – распиздяй московский. Распиздяй рижский, наверное, тоже смесь, но другого типа. Но дальше меня не приняли в театральное училище потому, что я еврей.
(Смеется.) И вдруг ты узнал, что ты еврей!
Что у меня восточный тип внешности, при помощи которого я пролетарскую морду разыгрывать не могу. И блат не помог, ничего не помогло. Я где-то все время срывался. Но мне один старик, который был еще из 30-х годов, Борис Григорьевич Кульнёв, сказал: «Здесь тебя не примут, а ты приезжай в Воронеж, и мы тебя примем». А он и Ольга Ивановна Старостина, его супруга, были людьми, которые создавали институты. В них время задержалось, оно было из 30-х годов – скорее страшное, но в то же время еще с остатками и следами той совсем уже неизвестной мне культуры. Дореволюционной, до варварского нашествия. Вот, я поехал в Воронеж, подписал с отцом, царствие ему небесное, контракт, что я точно выбрал путь театра и снимаю с моего отца любую ответственность за этот выбор. Прямо реальный контракт.
По его просьбе?
Да, он мне сказал: «Нужен контракт, потому что, Боря, тут дело серьезное». И я подписал его. Уехав в Воронеж, я остался совершенно один. Я не ругался матом, я не ел так называемой городской пищи. Я и так был страшно капризный, а тут еще какая-то пища, мне все время казалось, что я чем-то... А жил я в комнатке, охристой такой, желтоватой, очень маленькой, у совершенно гениальной бабушки Галины Ивановны, старухи такой. На улице Советской культуры. Это были частные дома, еще не разрушенные в то время. Все люди вокруг меня были мне неизвестны, но мне было легко. И вот в этот момент я стал толчками получать внутреннюю веру. Не из книг. То есть вот эта странная тяга к театру вывела меня из-под среды, которая перекрывала возможность для естественного возобновления во мне взаимоотношений с Творцом, с верой.
В какой-то мере твой рассказ свидетельствует о том, что евреем ты себя осознал благодаря внешним обстоятельствам, внешнему давлению.
Я осознал это благодаря одиночеству. Это все-таки не давление, а это какой-то образ освобождения от того или иного давления. И я оказался свободен для самого себя. Первое, я вдруг ощутил, что одиночество – это классно, мне понравилось быть одиночкой. И в эту секунду какие-то процессы начались, это видно в стихах каких-то, в чем-то, где я проявлялся. Буквально через год у меня съехала крыша, буквально через год измененное состояние сознание пошло.
Надолго?
Нет, на полтора месяца, если с самого начала до абсолютного завершения это процесса. Я стал слышать голоса – это отдельная история. Причем очень сильный внутренний удар по альтруистической доминанте возник как следствие этого одиночества.
То есть еврейство ты воспринимаешь не как этнос, а как особое отношение к творцу?
Еврей для меня – это только наличие в твоей жизни отношений с Творцом, иначе я этого не понимаю.
И так ты определяешь евреев?
Конечно, только так, по-другому для меня не может быть. Пока не было этого, я и не был евреем.
Скажи, такое осознание себя евреем напомнило тебе о существовании Торы?
Нет. Я ничего про это не знал. Я слышал... Знаешь как? Знать и слышать – разные вещи, к сожалению. Но мы там в 15 лет ходили на еврейские праздники с моим окружением. А так как это было связано еще с кгбшниками, которые гоняли... В основном-то, чем я был занят на этих праздниках? Я клеил девочек, меня увлекала эта хрень. Там же куча красивых еврейских девочек, да и не только – там куча народу была. Это была тусня, это была радость. Особенно после 14 лет, это была особая радость сладостной московской жизни. Какая Тора? Я вообще не понимал, что это такое, даже не задумывался. Постепенно я стал понимать, что есть разделение «душа и дух». Психическое – это, конечно, душа, психея. Но есть и дух, при помощи которого можно душою управлять. Я вдруг понял, с чем связана подлинная работа театра, что театр пробивается к чему-то, что в человеке реально. Как бы выводя человека, его душу, из бытового или повседневного состояния, он позволяет встретиться... Тогда же все-таки была логоцентрическая цивилизация.
Когда?
В 70-е годы.
Она поменялась сейчас?
Конечно, очень сильно поменялась. И все-таки драматический текст – в первую очередь драматический, но не только – находился в центре внимания театра. Сейчас это уже не так. И благодаря текстам, которые хранят живые студии потрясающих душ или духов... В принципе, тексты-то были в библиотеках, в практике открыты. Если ты возьмешь Шекспира, ты его просто не можешь открыть без Творца. Это уровень псалмопевца, его тексты – это псалмы. А как ты можешь к ним присоединиться? Каким образом? Причем эти тексты насквозь, минуя драматургию...
Ты сейчас описываешь свое теперешнее понимание?
Не-е-ет! Я так начал ощущать буквально перед армией, после того, как пережил измененное состояние сознания. Потом я узнал, в что в психологии это так называется, у меня по этому поводу есть целый роман, описывающий сам процесс, как это происходило. Я начал заниматься особого рода техникой. Благодаря одиночеству я стал одновременно записывать жизнь и ее проживать. Потом я выяснил, что это в чем-то можно сравнить с суфийской техникой.
Записывать в виде писем?
Вот мы с тобой говорим, и я просто на огромной скорости пишу, что говорю я и что говоришь ты. Но одновременно с этим я еще и описываю, где мы говорим и позволяю фантазмам, которые накапливаются в процессе разговора, тоже быть записанными. Я практиковал эту технику. Это не дневник – это запись жизни по мере того, как она происходит. Это и есть начало мистериальной техники. Дистанция к жизни, которая одновременно с этим продолжается. В эту секунду возникла первая игра с границей «искусственное–естественное». Я в этой технике написал много всего, в частности один роман, который назывался очень по-детски: «Черт-те что, Или в бегах за убегающим временем». Потом я находился в очень острых отношениях с двумя внутренними персонажами – с Петраркой и с Прустом. Так получилось у меня в эти 18-19 лет. Не только, естественно, с ними – еще и с воронежской шпаной и всякой там хуйней, сопутствующей этой жизни. С чеченцами, которые в институте были. То есть были какие-то очень острые переживания о жизни и очень острые переживания текстов, встреч. И плюс техники театра, идущие от Станиславского, которые содержат в себе особые йогические сгущения. И дальше, завершу: уже после множества приключений, когда мне впервые попала в руки видеокамера, я вдруг увидел инструмент. Уже тогда я понимал, что это очень архаичный инструмент.
Вместо карандаша?
Да. И вот с этой секунды я уже очень сознательно этим занялся, потому что имел огромный опыт, даже целый стиль в себе воспитал. Ну, и перформанс, которым я баловался в 70-е годы, еще даже в той среде. Например, однажды, будучи красивым еврейским мальчиком, я переоделся в женское платье и прожил сутки женщиной. Огромная компания людей ходила и смотрела на меня в метро, а я жил женщиной. Хотя у меня не было вообще такого... Я был абсолютный мужчина.
А зачем?
Интересно было, баловство. Более того, в меня как в женщину влюбился физик-теоретик какой-то, доктор наук, лет на 15 меня старше, он меня заклеил, мы всей компанией пошли к нему в дом, мы там у него расположились. В общем, прошло 24 часа, и я прекратил это дело. Маша, по-моему, Арбатова в этом участвовала, там много людей было. И пока я этой хренью занимался, я впервые ощутил, что такое быть женщиной. Просто ощутил, это меня поразило. Я получил внутри себя опыт совершенно другого существа. Еще один перформанс того времени – я это так не называл и даже не понимал, что это какое-то искусство – заключался в том, что мы с Сашей Лебедевым, моим приятелем, решили стать глухонемыми. Мы не умели говорить на этом языке, мы изображали, но в принципе мы сутки прожили глухонемыми. Еще у меня была попытка пожить слепым, при этом видя все вокруг, но у меня уже драйва не хватило. Это я к мистерии, что все такого рода ходы – это как естественное проявление выхода за пределы установок и форматов твоей реальной жизни. Оно мгновенно включает инициацию, включает в человеке что-то, что принадлежит уже совсем другому измерению, другой системе координат, включает внутреннюю мистерию.
Да, понимаю, но мистерия тут не является ответом на вопрос, почему ты увидел напряжения между отношением с творцом и театром...
Вообще не увидел.
Ты увидел, что это друг друга как бы кормит, что это как бы не противоречие...
Творец не явился мне как проблема, понимаешь? Творец явился мне как моя личная индивидуальная хрень. Как тайна. Я не собирался пропгандосить, я не собирался никого обращать в моего Творца, он просто объявился во мне как сладость углубленного сосуществования с самим собой и с миром вокруг себя. Он давал мне энергию жить и заниматься театром. Понятно, что я этим пользовался.
Ты сразу его назвал творцом?
Нет. Я говорил «Бог», я говорил «ангелы». Но я даже, ты знаешь, в стихах этого не говорил. Я избегал этих слов в стихах.
Когда я просил тебя обратиться к рассказу о саде Эдемском, ты указал на невозможность драматизации этого, потому что ты не можешь представить бога как личность.
Я его вообще никак не могу представить.
Судя по его действиям, одно творение может...
Я это считаю не действиями, а проявлениями.
Хорошо, судя по его проявлениям, можно решить, что образ режиссера ты нашел там.
Нет, вообще никакого отношения. В порядке игры словами еще можно сказать «демиург».
Демиург – это ремесленник.
Ну естественно, да. Вот в этом слове демиургическое начало, это божественный ремесленник. Это тот, кто свое ремесло понимает как свое предназначение. В этом смысле – да. Вот Цветаева, которую я очень любил в те времена, делала двести поправок в черновиках. Это мне нравилось, здесь я слышал качество, понимаешь? Здесь я слышал что-то, что должно быть в театре. Я всегда понимал театр как живое, драйвовое дело, которое может быть ничуть не менее тщательной и классной выделкой, чем картина или хорошо сделанная вещь. Это меня увлекало, но этого не было в моей жизни, пока я не встретился с подлинными мастерами, к которым я пер напролом своей жизни. С Эфросом или с Васильевым, особенно с Васильевым, то есть с перфекционистским отношением к делу. Пока я с этим не встретился, я все время жил в каком-то внутреннем зазоре.
Между?
Между неряшливостью окружающего меня искусства и потрясающей выделкой тех стихов, которые мне нравились. Поэтому меня в юности очень интересовала проблема ремесла. Я в основном читал то, что сейчас принято назвать культурологическими работами. Я пытался найти там тайну искусства. Творец не был тем, чего требовало мое познание. Творец – был каким-то внутренним состоянием, скорее так могу сказать, которое даже не имело этого имени, которое позволяло мне не быть полностью в этом мире. Все остальное – это исследование ремесла. Причем огромный запрос на это был.
Давай остановимся на этом образе ремесленника и ремесла, и я задам тебе вопрос с другой стороны. Мир, который ты знаешь, хорошо сделан? Умелым ремесленником?
Мир не сделан ремесленником. Это я тоже прекрасно понимаю.
Ты же назвал его демиургом.
Да, но и мир никогда не казался мне изделием, понимаешь? Это позже, года в 23-24, диалектика. Все-таки я из философской семьи, где вся моя юность прошла в бесконечных спорах, потому отец был гегельянец, а брат мой старший был скорее неоплатонист.
А в этом споре гегельянства и неоплатонизма ты был...
Я всегда разрешал этот спор. Я был самый умный. Самый необразованный, самый невежественный, зато у меня речь хорошо подвешена с детства. И я в таком естественном режиме размышления постепенно приводил это к снятию оппозиции.
Потому что ты просто всё знал?
Я ничего не знал. Как я мог знать всё? Я был невежда, абсолютно равный всем остальным пятнадцатилетним мудакам, которые истекали юной спермой и жаждой приключений в городе. Поверь мне, это было намного интереснее, чем споры... Хотя споры были увлекательные. Но в этом смысле да, конечно, апеллировали и к Творцу. Нельзя сказать, что сквозь мое сознание маршировали все умные слова того времени. Они прекрасно маршировали, но они во мне не задерживались. Реальные мои желания были в другом.
Я перед нашим разговором прослушал несколько твоих выступлений и прочитал несколько твоих текстов.
Это дипломатия, это не подлинные слова.
Да, я в основном ничего не понял. И когда ты сейчас сказал, что у тебя очень хорошо подвешен язык, мне...
И этого ты не понял.
Нет, это я понял. Сейчас в разговоре почти все, что ты говоришь, я думаю, что понимаю.
Ну конечно. Там же у меня разговор не с тобой, у меня там разговор с социумом. Ты пойми, любое публичное выступление для меня является особого рода операционной ответственностью перед тем делом, которым я занимаюсь. Это впервые сделал Мейерхольд. Учитывая, что мы не живем в безвоздушном пространстве, когда наступила победа пролетариата над всем на свете и варвары захватили мир, он говорил на варварском языке. Он говорил: «Вот сейчас это движение актера N мы посвящаем будущей победе революции. Сделай вот так».
(Смеется.)
Понимаешь? То есть двойной язык, который был досконально изучен театром для того, чтобы что-то делать. Это и есть операционная дипломатия театра. Если ты не сумасшедший и не идиот, то ты должен, не говоря того, что тебе не положено, противно или ведет к каким-то неправильным последствиям, быть очень внимательным, как это может быть у дипломата или у политика, в социокультурных своих проявлениях, в той публичности, которую ты себе позволяешь. Ты не должен об этом забывать. Так я отношусь ко всем своим публичным речам.
Сегодня я это сформулировал так, что эти речи – не для понимания, а для влияния на ситуации...
Эти речи происходят на территории политики. Эти речи происходят полностью в социокультурном режиме. А ты предлагаешь разговор... Мы пытаемся выйти за рамки, и я на это откликаюсь и, может быть, благодаря этому становлюсь чуть более ясным или понятным для тебя.
Понимаю. Меня очень заинтересовала твоя педагогическая деятельность. То, что ты очень рано стал заниматься педагогикой.
Ну как – рано? Нормальные люди в этом возрасте уже умирали.
(Смеется.)
Педагогика – это знак смерти при жизни. Я за 30 начал. 33 мне было.
Я хотел бы, чтобы ты помог мне понять одну вещь. Ты некоторое время обучал режиссуре как делу.
Я только режиссуре обучал. Учусь при помощи обучения.
Вот из своего обучения и того, что ты все еще в процессе понимания, мог бы ты выделить необходимые элементы для мышления режиссера? Потому что я недавно, благодаря дружбе с Сашей Шейном, понял, что режиссерское мышление – это другое мышление. Оно как-то по-другому устроено, но я не могу уловить как.
Предметом работы режиссера является процессуальность. Я считаю, что искусство создания процесса – это и есть искусство режиссуры. Его оформления, аранжировки, работы с ним. В этом смысле я иногда говорю «процесс» или «новопроцессуальное искусство», а иногда говорю «проект». Есть обязательные вещи, связанные с режиссурой, когда она оказывается в театре или в кинематографе. Скажем, в театре это воображение. Просто развитие воображения – очень важная часть режиссерского таланта. Ты должен представлять и видеть универсум, с которым ты работаешь. В проявлениях энергии, в проявлении самых разных форм. Даже если взять два понимания формы, да? Просто спокойно делайте свой труд, хуже никому не будет. Есть – опять-таки, я скажу очень обобщенно – внутренняя форма, то есть структурация. И есть форма так называемая просветительская, но уже в европейском смысле. Это оболочка, форма внешняя. Вот, режиссер работает... Его творчество связано с постоянным сопряжением двух форм. Это сущностная часть его работы, это обязательное качество режиссера – структурировать процесс, который при этом может потом повторяться. А второе качество – это соотносить ее с внутренней, невидимой, неосязаемой частью работы, которую ты должен кристаллизовать, изъяснить, выстроить, отдать другим людям – ну, приобщить их к этой структуре. И в этом смысле ее как бы поставить на стол игры, при том что мы ее не видим. А это всегда, конечно, открывается в коллективном, взаимном труде. А второе – это сопрячь с этим форму, которая различима во всех проявлениях, всеми пятью чувствами. И вот искусство этого сопряжения – это и есть искусство режиссуры. Потому что это же всё в развитии происходит.
Некоторые вещи из твоего короткого рассказа я не понимаю. Структуру я понимаю как строение, постройку.
Например, понимание. Вот ты сейчас со мною говоришь, у тебя центр внимания вот здесь. Ты говоришь как бы головой со мной: «Подождите, я хочу это понять». С точки зрения режиссуры это смешно. Это сразу становится персонажем. Ну, такой мозгляк. Потому что человек-то не измеряется только разумом, а я же работаю с людьми. И дальше у тебя начинает отсутствовать все остальное. Ты, управляя и концентрируясь на мысли, теряешь возможность управлять энергией, чувствами, душой, даже духом, потому что он не возникает просто в мозгу, и очень многими другими вещами. И я это сразу вижу. Я вижу, когда ты выходишь, потому что в процессе работы с незримым... Больше 50 лет я этим занимаюсь, я сразу вижу, как устроен человек. Но вижу не с точки зрения умозрительной, а с точки зрения участника моего дела. И в этом смысле всё, от костюма, от всего, от всего – это косвенная болезнь или радость, которая обретается без всяких мистик в процессе этого труда.
Ну, это просто профессиональный взгляд, взгляд умельца. Ты не структурируешь меня.
Нет, конечно. Но дальше, когда я выстраиваю структуру, я ее выстраиваю для универсального человека и вместе с ним. То есть не для человека просто умозрящего, а вместе с тем, как живет энергия, как живут чувства, как живет в конечном итоге система желаний или столкновений и так далее. Потому что если мы говорим о драматическом театре, что является частым образом моих штудий, то там надо обнаружить конфликт противоположностей, столкновения, то есть драму. А это тоже часть структурации. Диалог, например. Надо обнаружить не только противоположные территории для столкновения, надо оборудовать еще и систему обмена. А обмен – это не только обмен идеями. В первую очередь, если мы говорим о психологической структурации, это обмен чувствами и действиями. Театр когда-то пребывал там, наверное, но потом в XX веке он это всё потерял, он ушел в психическое во всех смыслах. Там, где это психологический театр, он ушел вот в эти обмены, в ситуации, в нарратив, в обмены чувствами и так далее. Там, где театр энергетический, он ушел в какие-то другие вещи, но он ушел от идей. Для того чтобы ему вернуться и опять разыгрывать идеи на правилах игры и действия, моему учителю, Анатолию Александровичу Васильеву, пришлось, например, создать целую территорию, которая называлась «Искусство работы с игровыми структурами». Вот в эту секунду в театр вернулись идеи, поэтому он брал Платона, на нем тренировался. Но надо понимать, что актера или играющего, актера или рапсода увлекает идея как игра идей, а не как желание открыть истину. Это большая разница. Между прочим, сейчас в тебе стало меньше умозрения, ты стал подключать сюда еще и свою человеческую природу. Ты изменился в диалоге. Это удивительно. Чуткость произошла.
Наверняка за время нашего разговора были и другие изменения. Но я хотел подытожить. Каковы те элементы, которыми режиссер смотрит на людей? Их ведь много или как минимум несколько. Ты сказал «энергии» – умственная...
Как режиссер смотрит на человека? Если универсально высказаться, обобщая восточный взгляд с европейским, то он исследует, как игра сегодня может быть снабжена идеями, что такое ситуация. Он исследует ситуацию.
Ситуация не психическая, а жизненная...
Да, обязательно в перипетиях происходящая. Но он не просто смотрит в ситуацию. На самом деле есть множество технологий, связанных с анализом ситуации с точки зрения переведения диалога, например, который тебе предложен драматургом… Драматург предлагает и диалог, и ситуации, и это разное. Даже если говорить о священном тексте и смотреть на него как на драматургический – то, что ты предложил изначально, – то там есть диалог, там есть ситуации и так далее. И казалось бы, что нам мешает на него так посмотреть? Так Голливуд на него смотрит, все эти воляпюки, которые получаются, это и есть взгляд Голливуда с точки зрения нарратива. А нарратив – это есть и то, что прибывает, и игра ситуаций между всеми людьми. А ситуации, идеи, энергии – это уже восточный театр. Пластическое развитие. Есть повседневная пластика, вот мы с тобой сидим, естественно, каждый раз располагаясь в кресле нашего разговора. Но для того, чтобы актер получил возможность универсального статуса – вот я уже на секунду, видишь, выпрямился – это называется «надеть тело на колок». То есть я изменил позицию тела, она неестественна. Она естественна для глиста, хотя она наиболее рациональна, даже на крае стула сидеть, как балерина. Актеров в свое время, в конце XIX века учили садиться на краешек стула, поднять, опустить, насадить тело на колок, а жопой зажать лимончик, чтобы все было правильно. И как бы свободно разговаривать. Кажется, что это абсолютно искусственно, но на самом деле это наиболее правильная позиция для игры, для общения, но только не для размышления, надо признаться. А дальше энергия, дальше чувства, как они в связи с ситуацией развиваются. Это целое искусство, огромное искусство, которое при этом можно сравнить с тем, как возрожденческая живопись открыла прямую перспективу. Но позже, к концу XX века, скажем, русская психологическая и тем более игровая школа стала работать с обратной перспективой.
А как перспектива нормальная и обратная в мире чувств...
Выражается в действии? У Станиславского это называлось «сквозное действие». Ты имеешь что-то, – прости за ликбез – с чего начинается ситуация, с какой-то системы, событий, происшествий. Но мы же всегда имеем дело с рамкой, за которой начинается пьеса. Что-то было до этого. Вот анализ предшествующего, но не вообще всего, а того, что на самом деле оказало влияние на те ситуации, на то поведение, действия и слова, которые говорятся в пьесе, это должен открыть режиссер в своем анализе. И предложить это артисту. Но не предложить просто в виде слов, а в связи со сценой: разбор каждой отдельно взятой сцены из предложенного тебе текста – это целое искусство, причем в русской традиционной школе психологического театра оно является основным.
Это была нормальная, прямая перспектива.
И вот ты получаешь это движение внутри, сквозь вот эти ситуации. Где меняется человек, меняется соотношение сил и так далее. И это чем-то заканчивается. Вот когда ты двигаешься и у тебя внимание, источник энергии, источник движения в основном находится сзади, а движешься ты вперед к событиям, которые еще не наступили, но наступят в результате того, как ситуации, сменяя друг друга, отработают человека и всех находящихся там людей. Когда причины развернутся в следствие. Вот исходное событие – это то, что привело к образованию системы ситуации. Оно должно, например, по правилам русской школы касаться всех ситуаций, которые встретятся нам в пьесе в начале. Дальше они начинают разворачиваться, вступать друг с другом в отношения, и возникает другая система событий, как предлагает это понимать так называемый действенный анализ пьесы в ракурсе системы Станиславского. Путем этих событий ты приходишь к чему-то, что можно назвать финальным событием. Вот этот конец называется «основное событие» – то, куда устремлено действие. Итак, для того чтобы это играть, актеру надо очень точно оборудовать в себе систему предлагаемых обстоятельств, которые приводят к событийному взрыву, и двигаться по этому пути. Для этого есть целая операционная школа, инструмент, это очень подробная работа, не обезьянья. Там есть такие понятия как аффективная память, например. То есть система возбуждения чувств, которую очень серьезно разрабатывал в ранней стадии своей работы Станиславский. Потом это действие, потом метод физических действий, там по-разному называются целые школы. Во многом современный Голливуд возник из диалога этой школы. Не из принятия ее целиком, но из диалога. Актерские школы американские...
Там же и Михаил Чехов...
Нет, он скорее на периферии был, там другие центральные фигуры до сих пор. Это Ричард Болеславский, Ли Страсберг, Стелла Адлер – так называемая нью-йоркская школа. Михаил Чехов потом из Англии переместился в Лос-Анджелес и там сделал свою школу. Михаил Чехов говорил не «аффективная память», то есть не реальная память, он говорил «воображение». Михаил Чехов сразу применял мистериальную школу Штейнера. И это совсем другая школа, это не бытовой театр, это не реалистическая школа. У него совершенно другие техники. По сути, изучение разных техник – это и есть юность, без которой невозможно встать на путь какой-то собственной режиссуры, на мой взгляд. Вот этим я и занимался, долго.
Итак, прямая перспектива – это движение от исходного события к основному. Обратная перспектива требуется при изложении того, что называется «эпическими структурациями», игровыми структурами, это уже «концептуальная структурация», концепт – в отличие от темы. Когда ты начинаешь работать с концептуализацией, тогда ты начинаешь двигаться при помощи доминирующего присутствия финала. Ты как бы к нему тянешься, он, как Солнце, светит и питает движение действия.
И это требует совершенно другой техники?
Это другая техника игры, ее надо накатывать, получать из рук в руки. В нашем деле, как и, в общем-то, любом ремесле, все можно только из рук в руки передать. Из книжек это невозможно взять. Потому что каждый день ты вместе с мастером видишь нюансы, как он откликается на «хорошо-плохо», на множество вещей. В каком-то смысле я глубоко убежден, что работа веры, постижение веры, тоже возможно только из рук в руки.
Понимание, как читать текст, тоже из рук в руки?
Нет, это работа веры. Работа – это не как читать текст. Как читать текст, ты можешь обучиться у Лакана или даже у Деррида, у Делеза или, если очень захочешь с ними поспорить, обратись к Бадью. Они все, будучи атеистами, могут читать текст. Но священный текст они читать не могут и не смогли бы никогда, о чем предупреждали еврейских философов каббалисты. И это был очень серьезный спор, очень глубокий. Они основного не знают. У них накапливается информация, у них накапливаются знания, они даже могут очень умело оперировать категориальным или понятийным аппаратом Каббалы, но они реального, личного, невыразимого словом опыта не имеют, и в этом смысле нарушают заповедь «сделай и узнаешь».
Можно быть хорошим режиссером, не зная основных вещей?
Нельзя. На мой взгляд, исключено. Он просто будет гениальным художником. Но хорошим режиссером, профессиональным, его не назовешь.
Именно из-за отсутствия основного знания?
Из-за отсутствия изучения. Он может что-то знать, чего-то не знать, и это понятно, все не могут знать всё, но он должен стремиться овладеть оперативным языком. В первую очередь и самое сложное – это работа с актером. Это реально очень сложно. А гениальный художник, ну – что такое гениальный художник? Это пустая фраза. Мы же не говорим о гении, о даймоне, об античности в этом смысле. Мы просто пользуемся какими-то степенями условностей, чтобы кого-то как-то охарактеризовать. Можно восторгаться художником, его дарованием в чистом виде, но это будет интуиция, и это замечательно. Может ли образованный и не прошедший школы режиссер быть автором потрясающих вещей? Может, конечно. Так сейчас все время и происходит, и я с наслаждением на это смотрю. Во всяком случае здесь празднует себя свобода во времени. То, что случилось с русской школой, это ужас сталинского форматирования, который произошел и дальше очень долго не отпускал искусство из своих цепких варварских рук. И даже культуру. А я их разделяю. Как и философию, если ты профессионал. Может же быть профессионал-философ, а может быть мудрец, который немного интереснее мыслит и свободнее, чем профессиональный философ.
Да, безусловно.
Вот так же и в режиссуре. Если это соединяется, оно дает поразительные результаты, но не всегда соединяются какая-то художественная свобода и гениальность человека и его профессионализм, а именно знание практики своего дела в универсуме. Я говорю об универсальном взгляде, и мой взгляд не является общепринятым, честно тебе скажу.
А какой ты режиссер?
Я режиссер, стремящийся к универсальным отношениям со своей профессией, к знанию.
Универсальным в смысле «не частным»? Относящимся ко всем и ко всему?
Я стараюсь окутать пониманием то, что я делаю. Старался. Почему когда я делаю так, у меня получается, а когда я делаю иначе, у меня не получается? И где здесь мои знания располагаются?
Из того, что ты говорил, получается, что ты пользовался мистериальностью как одним из процессов...
Перед тем, как я вообще стал употреблять слова «новое мистериальное искусство», я с 17 до 30 лет занимался изучением русской режиссерской школы. Потом, я считаю, что Васильев её продолжил с игровыми структурами. И я это изучал практически, у меня на глазах складывалась эта теория и практика. Я это изучал, как мог, досконально, под наблюдением Эфроса и Васильева. Это главные мои учителя, величайшие режиссеры моего времени. От них из рук в руки я получил это знание. А дальше я его надорвал и полностью ушел из-под власти этого знания над собой, но не расстался с ним, на определенное время изучая и апробируя и воплощая свою систему идей о режиссуре, о практике. Но школа, на которую я быстро вышел, позволяла мне держать и знание, и свой поиск в каком-то единстве. Школа позволяла это делать, потому что я придерживался взгляда, что надо поставить на путь традиции, назовем это так условно, самых безумных представителей андреграунда и кого угодно. И я старался это сделать – естественно, абсолютно наивно.
Я хотел уловить связь между двумя понятиями. Одно – мистериальность или новая мистериальность...
Новое мистериальное искусство. Знаешь, как его описать?
Нет.
Это театр, который не является ни игровым театром, ни психологическим.
Но когда ты вводишь понятие «новомистериальное», это же относится к мистериальному. Это не новомистериальное, а мистериальное.
Можно иначе сказать. Это игра по канве. Дается канва, вот один нарратив, а ты этот нарратив медленно, последовательно, вместе с актером заменяешь в живой фантазии на другой нарратив. Вот это практика сада. Сам этот акт и есть... А нарратив, который ты всовываешь в любой текст, в данном случае это миф. И вот когда ты начинаешь их вращать друг по отношению друга во время игры, одно и другое, ты на самом деле получаешь новый, универсальный тип театра или режиссуры. Искусство этого вращения, мгновенного, здесь и сейчас, на территории речи... Я для этого речь очень градуирую. Есть эвристичная речь. Это речь, в которой мы сейчас говорим и к нам приходят, посылаются идеи.
Когда ты говоришь?
Да, только когда ты говоришь. Эвристичная речь – это бомбардировка, это особого рода состояние разговора, не обязательно монолога, в котором мы начинаем открывать идеи. А есть, например, излагающая речь. Когда ты рассказываешь, как я сейчас. А есть речь сочиняющая. Эта речь, которая не связана с получением идей и в которой ты сочиняешь мир. Но если ты хочешь заниматься новомистериальным театром, то мир и миф надо вместе сочинять. Мир надо сочинять и миф надо сочинять. А потом надо научиться излагать, в эпической перспективе, как будто оно происходит здесь и сейчас. Вот эта техника игры, излагающая... Уже совершенное тобой преступление, как будто оно здесь и сейчас происходит, но именно в эпическом рассказе. Ты повествуешь о мир-мифе, который ты положил в основание своего разбора. Вот это и есть новомистериальный тип игры.
Ну вот, я уже почти тебя потерял.
Естественно.
Скажи, ты знаешь хотя бы одного живого человека, который, выслушав это изложение, тебя бы, по твоему мнению, понял?
Меня понимают все, кто со мной работал.
(Смеется.)
Естественно, конечно. Все садовые люди понимали, потому что то, о чем мы говорим, не познается в разговоре. Это вообще закон театра. Я на самом деле честный человек, я говорю так, что ты понимаешь: «Я его не понимаю». А многие в театре говорят, и ты думаешь: «О, я прекрасно его понимаю», но стоит тебе применить то, что ты услышал, и ты вдруг поймешь, что ты вообще ни хуя не понимал, ни одного слова. Потому что то, чем занято ремесло в нашем деле, понимается только на практике, и каждое мое слово, например «психологические структуры» – это минимум год-полтора ежедневной репетиционной работы. Тогда ты только начнешь понимать, что стоит за этими словами. Таковы сегодня условия существования художественного ремесла. Если хочешь к этому ремеслу приобщиться, будь добр, вступи на эту территорию и практикуй. Те же самые слова, тем же самым тоном сказанные, будут слышаться совершенно иначе.
Скажи, то, что ты называешь новым мистериальным искусством...
Да, это частный случай новопроцессуальности. Говорить надо со мной о новопроцессуальном искусстве.
Но ты по этой теме наговорил так много, что я...
Ты имеешь в виду за всю свою жизнь или сейчас?
За всю жизнь.
Я, скорее, понаставил сигнальных указателей тем, а по сути трудно про это говорить. Можно какие-то основные вещи сказать. Все остальное вертится вокруг.
Из того, что я слышал и читал, выделю несколько процессуальных элементов, которые я уловил, а ты мне скажешь, чего в этом не хватает. Во-первых, я понял, что это работа с процессами, которые могут не иметь конца.
Это обязательно работа в бесконечной перспективе. Ты смотришь на любой процесс и перекодируешь его, если он тому поддается, в бесконечную перспективу. Он, конечно, кончится, но ты так с ним работаешь.
То есть процесс понимается теоретически как незавершаемый? Ему нету естественного конца?
Ты не работаешь от его финала. В этом смысле это не обратная перспектива и не прямая. Это выход за пределы этой парадигматики, вот что важно. Я тебе все остальное рассказывал, чтобы хотя бы какое-то поле в разговоре получить и положить временную границу для того, чтобы рассказать о себе. О той новости, которую, как мне кажется, я привношу в эволюцию нашего дела.
Нашим делом называя школу русского театра?
Нет. Проектное дело, дело проектирования. Мы же имеем дело с проектом, а не со спектаклем. Когда мы говорим о новопроцессуальности, мы говорим о проекте.
Для меня проект – это типичное слово баблососов.
Ну, это твоя травма.
Может и травма, но более баблососовского слова, чем проект...
Это искажение. Зачем питаться искажениями? Возьми другое слово – дело. Или замысел, или приключение – неважно. Слово «проект» в данном случае, как и любое слово, содержит в себе и заразу, и жизнь. Давай говорить о жизни, а не о заразе. У этого слова ведь есть свой генезис, и оно, как и все слова, ограничено. Ну, художественное дело, которым ты занят, – так назовем проект. Это не для бабок, вообще. Я надрываю это слово, освобождаю для жизни, когда я говорю «бесконечная перспектива». Она уже не умещается в форматах социокультурного обмена, который сегодня существует. Ты не можешь подать свой проект, сказав, что ты не знаешь, какой у него будет финал. Тебе никогда на это не дадут бабок. Но тупая градуированность сегодняшней цивилизации показывает, что если ты хочешь сделать грантометный проект, ты должен показать результаты – начало и обязательно конец. Иначе они не различат изделия.
Ну конечно.
И с этого, собственно, началось мое понимание сада. Потому что там процессы плода, ношения. А на фабрике... И тогда я начал как бы в реальности получать противопоставления: дом или имение, фабрика или сад. Вот это все потихонечку стало образовываться и обретать подлинное содержание.
Но для обеспечения новопроцессуального искусства, как я понял, важно не только владение ремеслом.
Ты можешь быть ремесленником, а можешь не быть.
Это необязательное условие?
Нет, нет. Пойми, ты путаешь проектирование с режиссурой. Режиссура – это ремесло, а проектирование – это другой тип. Само по себе проектирование – это художественный акт, художественное творчество, это что-то, не располагающееся в рамках ремесла. Оно постепенно может туда войти, но если оно станет ремеслом, оно закончится. Новопроцессуальное проектирование не может быть ремеслом.
Новопроцессуальное проектирование и режиссер – это единая часть процесса?
Он может быть вообще не режиссером – он может быть художником. Он может вообще не знать театра, но при этом встать на путь новопроцессуального искусства и замечательно там пребывать.
Хорошо. Еще два понятия, которые я видел в твоих текстах, – жизнедеятельность и жизнетворчество.
А вот последнее – это ремесло. Каким бы оно ни было, киношное ремесло или, например, ремесло резьбы по дереву. Резчик по дереву может создать новопроцессуальный проект. При этом он, как ремесленник, будет именно резчиком по дереву.
Хорошо. Расшифруй понятие жизнедеятельности.
Это та сфера деятельности, которая обеспечивает твой проект.
То есть это к баблу относится?
Нет! Это действие.
Обеспечивает без бабла?
Без бабла можно обеспечить проект, например, сада. Я его обеспечивал на протяжении десяти лет, не имея ни копейки денег. Обеспечение жизнедеятельности связано с администрированием.
То есть с людским ресурсом, человеческим?
Человек должен что-то делать, он должен обзванивать людей... Составление расписания – это жизнедеятельность. Это именно та сфера, которая обеспечивает возможность твоему проекту продолжаться.
В том числе и нахождение денег?
Если он упирается в деньги, то в том числе и нахождение денег. Но еще раз тебе скажу, обычно эта сфера не является решающей для новопроцессуального проекта. Она решающая, поскольку сегодня жизнь людей в любых проявлениях упирается в деньги. Постольку она важна, но не больше. Даже если ты эти деньги получил, ты их должен как-то тратить, использовать. Я это называю искусством инженеринга. Это жизнедеятельное искусство. То, как ты их распределяешь, контролируешь, как ты с ними обращаешься, на что ты их тратишь. Как ты администрируешь людей, как твой проект функционирует в социуме. Как он в своей жизнедеятельной сфере функционирует вне социума. Например, Робинзон Крузо. Он вне социума? Вне. Вне денег? Вне. А вся его история, все его действия – это жизнедеятельная сфера. Денег там нет, к твоему сведению, но там есть туземцы, и он выстроил политику отношений с ними.
Этому ты тоже обучал?
Слово «обучение» надо подвергнуть определенному рассмотрению. Если понимать обучение как передачу традиции...
То нет?
Ну конечно, нет. А если понимать как совместный труд, в процессе которого происходит обмен, например, временами... Ученик мне дарит будущее, а я ему дарю прошлое – это и есть обучение. Ты учишься будущему у своего ученика, он учится у тебя прошлому, происходит обмен, и возникает некое совместное время. Вы создаете это время вместе. Происходит то, что можно назвать становлением проекта.
Хорошо, осталось только понятие жизнетворчества.
Это всегда игра, это не дело. Например, это было свойственно Серебряному веку, восьмидесятым годам, девяностым. Сейчас, в нулевые годы этого очень мало. Это стало исчезать как естественное проявление художественной жизни. Скажем, Блок, Белый, Любовь Дмитриевна Менделеева – они играли в Софию, инициированные Владимиром Соловьевым и просто своей любовью к средневековой даме... Они впускали это в систему своего баловства. Ни за чем. Это абсолютно бесполезная, чисто оскар-уайльдовская игра. Кстати, он тоже имел прекрасную жизнетворческую интуицию: дендизм здесь созревает и так далее. Это именно тот жизнетворческий ореол, который украшает твою жизнь баловством, игрой. Она происходит ни за чем, но происходит прямо среди твоей жизни. Здесь эта искусственная сфера созревает без какого-либо опосредования на путях реального процесса твоей жизни. Вот ты например так одет, эта сутана...
Это джеллаба.
Да. Вот это все является предметом жизнетворческого ареала в твоем поведении. И это существует как естественные проявления людей искусства и не обязательно искусства. Вот если ты возьмешь это под наблюдение специальным образом, ты с этим начнешь работать на территории новопроцессуального проектирования.
В искусстве?
Да, искусства туда прибавишь, обратишь на это внимание и заставишь эту естественную территорию работать на свой проект – например, на свой спектакль, и ты сможешь с этим очень конкретно, серьезно обращаться. Например, в саду я ввел персонажей, вывел на территорию аватаров: аватар Петя, аватар Раневская и так далее. И дальше, чтобы выйти за пределы театра, я предложил актеру Олегу Хайбуллину, которого я называл Петя... Мы все друг друга называли Петя. Я даже забыл, как его зовут. Он все делал от имени Пети Трофимова – аватара, в котором воплощается вечный студент. А вечный студент был нами создан как...
Мифологический образ.
Мифологическое существо. Он был Петей, он в бане жил. И так каждое понятие раздвигалось мифом. И вот я ему предложил сделать от имени Пети объекты. И все целый год делали разные объекты, акции от имени Раневской. А после этого мы сделали «Галерею-Оранжерею», в которой выставили объекты, сделанные аватарами – Петей в 91-м году.
Но можно жизнетворческую работу описать тремя словами? Это превращение жизни в игру?
Нет, нет, нет, это все будет перепутано. Это наделение жизни как таковой, не превращение. Здесь алхимический процесс еще не происходит. Здесь нет превращения, надо строго к этому относится. Это добавление...
Игрового элемента...
Искорок. Какой-то искорки мифа. Это добавляется в жизнь. Это не просто любая игра, хоккей или там... Это именно игра, в которой таится потенциал мифологизации. Это очень тонкая вещь. Вот только сейчас стали появляться спектакли в виде музейных объектов. Но для меня это закончилось в 93-м году, в принципе я все про это уже понимал. Я не хвалюсь, я просто говорю о свойствах новопроцессуального искусства.
Нет, ты не хвалишь себя, ты просто объясняешь, что ты умнее всех.
Нет, я не говорю, что я умнее всех, я говорю, что новопроцессуальный проект, если ты встал на его путь, ускоряет внутри себя время. Ты можешь быть самым тупым из всех, но ты получаешь сразу определенного рода проекции будущего развития искусства.
Это уже какая-то магия.
Это именно магия, отнесись к этому как к магии. Это магия, шаманизм.
Тебя при изучении Торы не пугали тем, что магические действия творцом запрещены?
Да нет. Вот, посмотри, это книга «Сад». Это наши объекты. Можно и прочесть подписи.
«Лавка Лопахина», «вещество и морковка», «стол и окно Пети Трофимова». «Лавка»... «Сад эмбриона».
91-й год, «Галерея-оранжерея».
Скажи, это было сделано для кого-то или для вас самих?
Ты говоришь «было», значит, ты говоришь про бытие, правильно? Бытие присутствует для кого-то. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Условно говоря, если ты сделал объект, ты можешь его выставить. Когда ты его делал, ты делал его по велению тех законов, которые подчиняются твоему творчеству, но это не продавалось.
Но показывалось.
Это обнаруживалось, да. Более того, из этого вырастал спектакль. Почитай, посмотри, сколько объектов. Тут ум вообще ни при чем. Я просто говорю о том, что сейчас очень актуально в современном театральном ландшафте и пейзаже делать спектакли в виде объектов без людей. Тогда, в 91-м это не было трендом или чем-то общепринятым.
Но это был побочный эффект, зарождающийся в новой процессуальности?
Нет, что значит – побочный эффект? Ты чем-то занят, тратишь свое время, жизнь, на довольно сумасшедшее дело. Как отнестись к этой фразе? Возможно, мы все – побочные эффекты пролетающей над нами кометы, блядь, которая так и летит, приблизительно в том же месте, с точки зрения вечности.
(Смеется.)
Ты себя считаешь побочным эффектом?
Ну, в повседневности нет, но могу представить себе такую ситуацию.
Начался миф. Назовем наш проект «Побочные эффекты» и двинемся туда. И через год нашего взаимодействия друг с другом мы начнем почему-то опережать время. Я могу это только констатировать, через свой опыт. Ну, мы с тобой не самые большие гении в этом мире. Вообще страшные, на мой взгляд, распиздяи.
Я с тобой совершенно согласен.
Но если мы пустимся в авантюру проекта «Побочный эффект» – он мне, кстати, очень нравится как название – мы через год окажемся в очень интересной ситуации.
Но это при условии выстраивания мифа о том...
Он сам начнет постепенно в речах наших... В нашем жизнетворческом производстве начнут появляться объекты, картины, песни, музыка, какие-то странные пассы на какой-то территории. И чем позже мы начнем это продавать, тем дальше мы продвинемся. Как только начнется купля-продажа, мы как будто переместимся на другую планету, где побочным эффектам трудно выживать. Сила тяжести изменится, мы медленнее начнем двигаться. И вот эта стадия очень зрелая для новопроцессуальности. Или если нас отформатируют как государственное дело, державное, тогда надо будет научиться двигаться на этой другой планете, с другим воздухом и с другим притяжением. А при этом может даже очень сильно развиваться новопроцессуальное искусство, просто если мы научимся двигаться там, поймем как это.
Какова задача новопроцессуального искусства?
Нет никакой, господи упаси, сверхзадачи.
А задача?
И задачи нету.
Есть цель?
И цели нету. В этом все дело – ни задачи, ни сверхзадачи, ни цели. Ни в коем случае.
Для кого?
Ни для кого. Давай Оскара Уайльда не будем бить головой о бетонные плиты сегодняшнего времени, его и так уже разбомбили за весь XX век. Давай согласимся, что искусство бессмысленно. Это занятие глубоко бесполезное, а вместе с пользой там исчезают все эти слова. Но давай разделим искусство и культуру. И давай договоримся, что искусство – это индивидуальное дело художника, а культура – это и есть то, что созревает в социуме. Назовем культуру как угодно. Знаешь, были времена, когда очень хотелось дать дефиницию этому понятию. Например, продуктивное общение людей. Так в Институте философии в начале 80-х годов это определили. Потом кто-то с этим опять спорил. Итак, культура – это социальная территория со всеми ее аллюрами и во всем ее разнообразии. В культуре очень быстро человек или продукт становится цифрой, и оказывается, что сто тысяч – это культура. А вот искусство остается на территории глубоко индивидуальной и автономной. XX век потратил свое время на то, чтобы обеспечить художника правом на собственную автономию. Так вот, проект, осуществляемый на территории искусства и постепенно, осторожно переводящий себя в область так называемой культуры, оставаясь при этом на территории искусства, – для того чтобы такой проект мог продолжиться там, требуется особого рода внимание к этим процессам. То есть к пограничности. Ведь понятие «искусство» возникло недавно, 200–250 лет назад. До этого было ремесло, и оно было по заказу. И всегда это измерялось заказчиком – польза, деньги. Искусство – это что-то очень модерновое, что-то очень сегодняшнее.
Но, скажем, ты ставишь спектакль, шестидневный...
Ставишь его раком в основном.
Если удается.
Я шучу. Мне кажется, что наш диалог практически исчерпал серьезный тон. Сейчас надо баловаться. Мне уже хочется играть словами, ставить раком спектакль, и исходя из этой метафоры отвечать на твои вопросы. Если я спектакль ставлю раком, чего я хочу? Это большой вопрос, но я же не зек или его начальник, чтобы над ним издеваться. Я хочу его оттрахать, получить удовольствие в этой позе. Я сам не знаю, что отвечаю.
Скажи, чем занимается Электротеатр Станиславский?
Ставит спектакли раком. Мы уже все это поняли. (Смеются.)
И сам оказывается раком?
Он оказывается раком, который сам себя раком поставил и отымел. И благодаря этому он, как рак, ползет назад и оказывается впереди. Он первый, кто, наверное, понял, что когда ты ползешь назад, это и значит, что ты ползешь вперед, потому что таким тебя создал Творец. Знаешь, интересно, как рождалась комедия дель арте, например, и вообще итальянская душа, как она себя формировала. Это в воспоминаниях Гольдони я обнаружил. Еще во времена гуманистов. Мастера Флорентийской Академии, эти высоколобые люди, развлекались тем, что собирались в соборе и приглашали мальчика. Но не для педофилии. Они просили, чтобы мальчик им что-то сказал. Мальчик говорил: «Вот я сегодня потерял собачку, а перед этим папа мне сказал: «Иди вон!». Ну, я пошел гулять с собачкой, вспомнил о папе, отпустил поводок – собачка убежала». «Спасибо, мальчик, – говорили они, – иди к папе». И дальше начиналось самое интересное, они начинали обсуждать мальчика, как будто они только что говорили по крайней мере с дельфийским оракулом. Мальчик сказал: «Иди вон». Вы понимаете? Вот ведь как живет наше время, в устах его отца! Он не указал на дверь и так далее, и каждый включался сам, и они с невероятным наслаждением занимались одной из самых бесполезных вещей в истории, превращая в мальчика по крайней мере в Тору, если не более того. Вот так созревало итальянское искусство. Так пишет Гольдони. Так вот, я думаю, откуда же у нас на квартире Никиты Михайловского, царствие ему небесное, созрела академия болтологии? В чем она заключалась? Это мы называли «прогнать телегу на час, чтобы ни одного смысла оттуда не вылезло». Это искусство ускользания из-под какой-либо осмысленности. При этом в энергии потрясающей страсти и радости. Академик болтологии – это был тот, кто мог телегу на час прогнать. Потом я понял, что это настоящее мистериальное упражнение. Потому что ты в нем должен руководить своим сознанием так, чтобы ускользать из-под потенциального смысла, который все время на языке вращается. Когда я стал изучать уровни речи, я понял, что внизу – болтология, которая каким-то удивительным образом невероятно прочищает сознание, энергию и так далее. А наверху, как высшее, эвристичная речь. Речь, в процессе которой к тебе приходят открытия. Не просто какой-то смысл, а открытия. Во всяком случае что-то, что потенциально содержит в себе новую идею или смысл. Не обязательно философскую, это может быть идея, связанная с развитием проекта. Более того, мне потребовалось разделить креативную и художественную работу – понимаешь разницу, да?
Не сразу.
Художественная – это способность человека к рождению образа, к рождению ритма, к рождению музыки той или другой. А креативное – это такое же творчество, но другое. Это способность человека к созданию нового бизнес-проекта или новой бизнес-идеи. Нового витка в военной стратегии. Или новой идеи, связанной с разработкой каких-то химических препаратов. Вот в продюсерском деле продюсер – это мастер, гений креатива. Он занят инжинирингом, то есть особого рода искусством, в котором твой креатив должен умудряться содержать множество дарований, с которыми ты как продюсер работаешь, а при этом развивать это в креативном плане. И это твоя ответственность. В этом смысле креатив, чаще всего, касается обобщенного человека.
Скажи, Электротеатр Станиславский – это креативный или художественный проект?
Это инжиниринг. Там, где я продюсер и театр – явление социальное, это инжиниринговое пространство, где креативное и художественное находятся в постоянно отстраиваемом внимании, балансе, работе. Поэтому множество текстов, которые ты читал, созданы на территории инжиниринга. Они в этом смысле и выстроены так, и работают в сторону развития Электротеатра на этой территории. Скажем, присутствие иррационального начала. Сегодня без него вообще невозможно что-либо сделать в искусстве. Поставить спектакль, не найдя возможности для иррационального хода, просто невозможно. А для инжиниринга надо постоянно соблюдать баланс между иррациональным, которое тоже есть в креативе, иррациональном-креативном, иррациональном-художественным, рационально-креативным и, да, рационально-художественным, потому что в нем тоже много чего есть.
Что ты хочешь сделать с помощью этого театра?
Я хочу, чтобы он жил, продолжался. С неизвестным для меня развитием. Я его в этом смысле люблю, чувствую, что это то самое место, где многие мои и не только мои устремления находят возможность для мгновенного баланса. Благодаря этому я различаю ценность этого места и думаю, что правильно ее хранить. Я иногда чувствую себя в хорошем смысле хранителем музея. Только если бы музей состоял из произведений в виде ручьистых узоров. Постоянно льющихся и развивающихся.
Но музей же – это место, где общаются музы.
Естественно. Тогда он и является самим собой. В этом смысле это тоже новопроцессуальный проект. Какие там появятся образы, в которых он будет воплощать себя, репертуар и так далее.
А есть какой-то пример новопроцессуального искусства, которое не ты создал?
Конечно, Илюша Хржановский. Проект «ВМаяковский» Александра Шейна – это абсолютно новопроцессуальный проект.
Они оба знают, что это новопроцессуальное искусство?
Конечно.
Ты их этому слову научил?
Нет, нет, они не мои ученики, они мои друзья. Потом, учитель, как ты знаешь, не может никого назначить своим учеником.
Но ты ввел в оборот слово «новопроцессуальное искусство».
Да нет, это слово прошло на премьеры сквозь меня. У меня нет амбиций быть законодателем слова.
Но в начале нашего разговора ты читал текст, где одно из событий – то, что человеку поставлена задача дать вещам имена.
Что такое именовать – вот вопрос. Может быть, давать имя – это не называть зайца зайцем, а, может быть, что-то присвоить. Из мира, созданного Творцом, ты присваиваешь что-то, что тебе не принадлежит. Может быть, акт именования означает, что он его обучал присваивать свой свет, присваивать себя. Он как бы ему говорил: «Попробуй давать имена», – и обучал его пользоваться самим собой. Мне кажется, что в этом заключается процесс именования.
То есть можно сказать, что творец тебе подарил слово, имя «процессуальное искусство»?
Ну, для меня это профанация, я этим не хочу заниматься.
Я просто хочу понять, что ты сделал, когда придумал название «новопроцессуальное искусство».
Новопроцессуальное искусство работает с неизвестным автором. Парафраз Фомы Аквинского: неизвестный архитектор Вселенной. Когда ты находишься на территории новопроцессуального искусства, надо все-таки отказаться от собственных амбиций, собственных ухваток, прихватов. Ты учишься дарить. Даже то, что тебе не принадлежит. Тебе дан дар? Отдай его.
Но ты дал название, ты назвал это так.
Понимаешь, ты мне все время предлагаешь прошлое время, а я в прошлом времени не живу, я и в будущем не живу. Я живу в настоящем времени, которое еще для меня сильно под вопросом, живу ли я в нем.
Потому что оно же не длится, оказывается.
Ну, конечно. Я же рисую все время дырочки. Ты видел мои рисунки?
Да, видел.
Дырочки – это миры, они все время меняются. Но я больной человек, понимаешь?
На всю голову?
На всю голову, однозначно.
Что самое важное, что ты понял в жизни?
Самое важное, наверное, то, что это абсолютная хуйня, когда говорят «самое важное». Я, похоже, об этом догадался.
(Смеется.)
Как ты продолжишься после своей смерти?
Со мной будет происходить какая-то невероятная хуйня. Но какая, я не знаю.
Спасибо тебе.
Пожалуйста, дорогой.