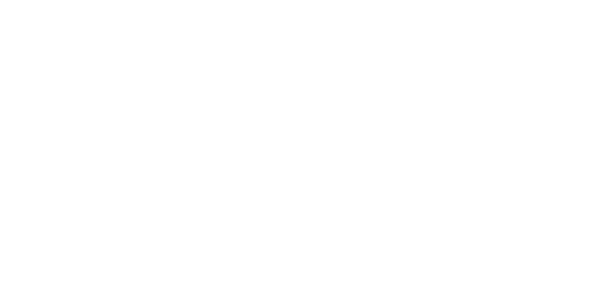25 и 26 сентября в рамках петербургских гастролей Электротеатра на Новой сцене Александринского театра состоялись видеопоказы оперного сериала «Сверлийцы». Создатели спектакля встретились со зрителями, чтобы поговорить о проекте. В дискуссии участвовали: Борис Юхананов, Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Степан Лукьянов, Филипп Чижевский, Анастасия Нефёдова.
Борис Юхананов: Электротеатр занят попыткой и намерением создания миров, скажем так. То есть по-разному можно понимать миссию театра: можно представить себе, что это интерпретация драматического произведения, можно представить, что это интерпретация музыкального произведения там, где это происходит на территории оперы.
Мы немного иначе стремимся организовать свой труд, и в этом смысле «Сверлия» – роман, который я писал, не озираясь ни на что. Просто писал по велению души и фантазии. Он так и назывался у меня – роман-опера. Он был написан за несколько лет до того момента, как я с прекрасной компанией художников и с Митей (композитор Дмитрий Курляндский – прим. ред.), со своими друзьями вошел в Электротеатр. Этот роман-опера – это такая форма, внутри которой были короткие новеллы, и в центре этого текста располагалось немножко сумасшедшее либретто в стихах. Причем стихи ни в коем случае не адаптированы к восприятию потенциального зрителя, ни в коем случае. Они существуют во всей той субъективной свободе, которая подразумевает вольное обращение собственной фантазии на территории текстов.
Конечно, внутри меня располагалось представление, как это свойственно автору в пространстве оперы – потому что опера была как часть текста – и оно даже оказалось внутри текстовых ремарок, скорее относящихся к стихам, чем к реальным указаниям на природу театра, который должен восстать из плоскости этих страниц. Но так случилось, что с Митей Курляндским мы в принципе достаточно задолго до вхождения в Электротеатр встретились в каком-то разговоре, посвященном «Сверлийцам», и я понял, что, возможно, настал момент, и Митя как-то догадался.
Дмитрий Курляндский: На самом деле, опера сама напросилась выйти, реализоваться в полноценный спектакль.
Б.Ю.: И в «Артплее», кластере за Курским вокзалом, недалеко от знаменитого теперь Винзавода, мы осуществили нашу постановку. Тогда это была первая и последняя, как нам казалось, постановка. Но случилось это только благодаря тому, что к нашему союзу присоединился Стёпа (художник Степан Лукьянов – прим. ред.), ведь художник невероятно важен в опере. Он, собственно, материализует текст в широком понимании этого слова. Он находит объем, пространство, возможность звучания, и вся кантилена мизансцен или еще что-то – все это рождается оттуда, из этого проступающего навстречу роману или музыкальному тексту замыслу, пространству. Поэтому наша встреча состоялась со Степой и, конечно, с Настей (художник по костюмам Анастасия Нефёдова – прим. ред.). И со Стёпой, и с Настей мы идем сквозь десятилетия, встречаясь в самых разных проектах. Настя услышала природу этих персонажей, услышала сразу и удивительно тонко, на мой взгляд, глубоко.
Таким образом, первая часть сериала возникла за пределами Электротеатра. А когда мы уже вошли всей нашей компанией, и к нам присоединились возможности, в которых зазвучала музыка, мы поняли, что отправимся в большой проект. Как-то очень естественно это поняли. Благодаря тому, что к этому моменту уже существовало очень зрелое, прекрасное общество потрясающих, на мой взгляд, композиторов. Я считаю, что композиторы и есть сегодня флагман отечественного процессуального искусства, по степени отчетливости их сознания, радикальности их художественных жестов, по связям, которые в частном и общественном смысле существуют в этой среде. Они, конечно, опережают театр как таковой, и поэтому для театра была большой радостью открывшаяся возможность начать с ними сотрудничество. Благодаря какой-то удивительной коммуникативной культуре Дмитрия к нам присоединились замечательные мастера музыки: Борис Филановский, Алексей Сюмак, Алексей Сысоев, Сергей Невский и Володя Раннев, – то есть центральная музыкальная плеяда в нашем отечестве.
Каждый из них очень свободно отозвался на текст и выбрал фрагмент, с которого начал работать. И так получилось чудесно, что весь текст вот этого внутреннего либретто оказался задействован. Театр заключил договор, и мы отправились в это путешествие. Результат путешествия вы увидите в виде фильма. Это тоже часть стратегии Электротеатра. Мы тщательно относимся к съемкам, хотим, чтобы спектакль жил, расширял круг возможной встречи с ним в разных городах и весях не только нашего отечества. Заинтересованные люди – их всех не уместить в Электротеатре… Мы делаем тщательный продукт, который по-своему является артефактом. Конечно, это иное, чем слушать и смотреть оперу в театре, но это не менее тщательно сделанная вещь – не просто документалка, а снятый фильм, продуманный и организованный во всех своих ипостасях. Но не вполне авторский и очень точно соответствующий спектаклю, потому что весь материал мы всегда снимаем во время спектакля вместе со зрителями и, таким образом, это достаточно антикварный перевод в аудио-визуальной формы фильма.
Вот что я хотел вам сказать. Если вдруг у вас появятся вопросы, то задавайте, а сейчас я хотел бы передать микрофон, может быть, Степан, тебе. Скажешь несколько слов?
Степан Лукьянов: Борис говорил про первую постановку в «Артплее», которую мы осуществили, откуда, собственно, мы пошли в это путешествие. Важно тут отметить, что Петербург стал одним из таких опорных пунктов всей этой истории. «Артплей» – пространство бывшего завода. Мы играли в этом вытянутом вдоль реки Яузы цехе и, собственно, это пространство стало ключевым образом, от которого мы уже шли дальше и в остальных сериях.
Анастасия Нефёдова: Собственно, идет речь о северной столице, Северной Венеции – это очень красивый образ. Мне кажется, это действительно классно, что мы здесь, и что Сверлия проступает сейчас как такой вот мерцающий мир – то, о чем Боря говорил. Для меня как для художника этот проект важен, я его страшно люблю по очень многим причинам: он стал для меня событием, для меня он – как прыжок с парашютом. Наверно, это можно так образно определить, потому что до этого я плавала в мире кино, и это совсем другой язык, совсем другие образы, совсем другие миры. А потом вот Боря вдруг неожиданно предложил мне совершить такой прыжок с головокружительной высоты, это был стремительный полет. Нам нужно было чуть ли не за две недели, по-моему, создать первый вариант первой части. Мы бросились туда сломя голову, это был красивый прыжок. Мы не готовились полжизни для того, чтобы проступить через портал в другой мир, мы просто туда прыгнули, благодаря, конечно, Бориному произведению, которое он создал, Бориной философии, которая там заложена, философия мира Сверлии, с которой вы сегодня, надеюсь, подружитесь, в которую вы тоже прыгнете, как мы.
И вторым таким ключевым моментом и золотым ключиком, который впустил меня в этот мир, был Митя Курляндский. При встрече, где мы в первый раз друг друга увидели, познакомились, и на этой же встрече я начала делать костюмы. Он сказал, что будет хор, и они будут петь с музыкальными инструментами, которые будут представлять из себя кабель-каналы, пластиковые гофры, тумбочки для прокладки коммуникаций. Это прокладывание коммуникаций и послужило, наверное, вот той путеводной нитью, которую, собственно, я и протянула в своей работе.
Б. Ю.: Это на самом деле так. В романе речь идет о параллельной цивилизации, которая одновременно присутствует, которая родилась после того, как закончилось профетическое сознание человечества, то есть возможность что-либо предсказывать и видеть будущее. Там есть такой персонаж у нас (не в самой опере), Курцвейл. Он известный футуролог, один из отцов технологической сингулярности. И вот он предсказал все, что произойдет в конкретных технологических открытиях, вплоть до конца XXI века, а дальше отказался предсказывать, потому что уже невозможно образование симбиозов и много всего. Сейчас не буду пересказывать, что-то из этого звучит. Просто в спектакле у нас еще есть специальный такой саунд создан, которой рассказывает подробно всю историю рождения Сверлии. Но после того, как он уже отказался предсказывать, я начал писать историю Сверлии. Как результат этой сингулярности возникла Сверлия, особая параллельная реальность, сказочная и в то же время какая-то иная, которая все время гибнет, но при этом она не может погибнуть. И вот это мне очень понятно: Сверлия существует в трех временах: в будущем, в настоящем и в прошедшем. Я ощутил себя таким засланным шпионом (что естественно для, например, литератора, режиссера) в эту реальность со своим заданием. А задание мое заключается в том, что я должен донести сверлийское послание до вас. И вот вы видите, как честно, в общем- то, невзирая ни на что, я выполняю свой долг, будучи одним из последних сверлёнышей, живущих в этом времени, я старательно доношу до вас это послание. А стиль, который родился у меня еще в девяностые годы, неожиданно встретился с Митиным ощущением времени. Я так и называю – фундаментальный инфантилизм. Вот с этим стилем, с фундаментальным инфантилизмом, вам предстоит встретиться. Самое удивительное, что какими-то невероятными интуициями Филипп (Чижевский – прим. ред.), грандиозный замечательный дирижер, мастер, нашел путь к этому инфантилизму и реализовал его в той потрясающей сложнейшей музыкальной работе, которую он осуществил по отношению ко всем шести операм. Филипп, я хотел бы дать тебе слово.
Филипп Чижевский: Спасибо. Здравствуйте, друзья. Сложно, на самом деле, в двух словах сказать об этом невероятном путешествии: музыкальном, драматическом, литературном, философском. Здесь все одновременно. Я бы начал с того, что все композиторы, о которых сказал Борис, они абсолютно разные – что понятно, естественно, так и должно быть. И для музыкантов, и для меня это сложно: буквально по щелчку пальцев мы должны перестраивать свое сознание невероятно быстро и менять правила игры внутри данной конкретной оперы. Мы каждый раз, когда играем этот сериал, уходим в абсолютно другую реальность, и на протяжении более месяца мы живем этим проектом, включая репетиционный подготовительный период, потом сценические репетиции и, непосредственно, спектакли. Когда мы начали работать, я стал получать партитуры. На самом деле, я даже близко себе не представлял объем той работы, которую нам предстоит сделать, когда мы уже подходили к выпуску. Это обусловлено и тем, что мы должны были сделать очень быстро записи (записи и для Бориса, чтобы он мог работать с материалом). Как обычно происходит процесс в постановке оперы: есть клавир, есть концертмейстер, вот он играет, и примерно мы представляем тайминг, какие-то кульминационные моменты, и то, как движется вот эта музыкальная мысль. Здесь ничего такого, естественно, нет. Где-то это звуки реальных инструментов, где-то это шумовая музыка, где-то это звуки, которые воспроизводятся нетрадиционными приемами игры на инструментах, где-то это просто стройматериал условно. Нам нужно было очень быстро охватить весь материал. Напомню, мы репетировали еще в «Артплее», и буквально так мы делаем одну репетицию – и на следующий день записываем вторую. Вот таким запоем мы прошли весь этот круг, весь оперный сериал. Дальше, собственно, перед выпуском мы стали погружаться в жанровую принадлежность каждой оперы. Как Борис сказал, сначала это была структура только для хора и солистов, из инструментов там присутствовали только вот эти шланги.
Когда у нас появилась возможность делать это все с инструментами, Митя поступил как Иоганн Себастьян Бах. Объясню, как. Предположим: возьмем мотеты Баха, их можно исполнять хором а капелла, можно – вместе с органом, можно – с органом и с виолоном, предположим, который поддерживает низкие басовые голоса… Вот Митя поступил таким же образом. Он где-то продублировал хоровые партии, что очень интересно в партитуре Бориса Филановского. Я поэтому не называл это операми, это, на мой взгляд, оратория, потому что в оратории первично наличие хора. Хотя хор есть везде, на хоре был сделан главный акцент. На мой взгляд, и солистами он (Филановский – прим. ред.) оперировал совершенно иначе, нежели Митя. Ну, они все по-разному делали. У Лёши Сюмака получилась абсолютно какая-то своя уникальная структура. Отчасти, может быть, с каким-то намеком на видео-оперу. Для меня видеофильм, про который Боря расскажет, наверное, отдельно, был как оперный певец, который не видит дирижера в данной мизансцене, то есть мне приходилось аккомпанировать фильму, это тоже такой очень интересный новый опыт. Два других композитора в четвертой части – это Серёжа Невский и Лёша Сысоев. В один вечер мы будем слушать сразу две оперы. Там сложности другого характера: и в плане формы, и в плане выстраивания вот этих двух абсолютно разных спектаклей в один вечер, чтобы это чувствовалось каким-то единым порывом. И финальная часть – это музыка композитора Раннева. Она статично реализована мизансценически: такая как бы вытянутая гондола, где сидит оркестр, а солисты стоят статично. Все это приходит к некому развалу в геометрической прогрессии и тишайшим образом завершается. Интересно, что все композиторы, которые присутствуют в сериале, никоем образом не общались. Кто как пишет… И, в общем, не было такой структуры, что вот я пишу таким-то образом, здесь вот какая-то лейттема, которая потом проглядывается...
Но, видимо, звезды расположились на небе таким образом, что мы ощутили некие связи, арки. Скажем, начало Митиной оперы – это такой исон, включается синус – незаметно, еще когда зритель только заходит в пространство, в павильон – и конец Раннева. То есть получилось такое ромбообразное развитие, которое потом достигает точки золотого сечения, и все постепенно уходит и растворяется. Интересен вот этот развал в музыке Раннева. Даже с музыкантами шутили: «Он нас догоняет, догоняет и будет догонять, как, собственно, и цивилизация Сверлии, которая гибла, гибнет и будет гибнуть». Какие-то такие вещи я для себя ощутил, пожалуй, только раз на четвертый, когда мы играли этот сериал. Удивительное путешествие. Пожалуй, не имеющее аналогов вообще. Ну, разве что можно сравнить со «Светом» Штокхаузена. Я, конечно, мечтал сыграть все вот эти шесть опер в один вечер, но это сложно, потому что меняется сценография, меняется расположение зала, и для этого нам необходимо иметь как минимум три зала, одновременно приготовленных под постановку.
Я бы хотел, наверное, передать микрофон Мите.
Д. К.: Я, на самом деле, чуть-чуть спущусь на землю, вернусь к самому проекту и отмечу еще одну уникальную сторону, которую проект представляет собой. Дело в том, что в принципе современная музыка не только в российской, но и вообще в мировой действительности – это всегда редкое событие, всегда спорное событие, понятно, как и все новое. Уникальность Сверлии в том, что она живет в репертуаре театра, причем театра в центре столицы, уже три года. Современных опер, которые живут так долго в репертуаре, в общем, по пальцам одной руки, наверное, только можно пересчитать. Причем это оперы, в которых каждый из шести авторов достаточно радикально обходится с традицией музыкального языка, становится в очень такой острый диалог, каждый по-своему, к традиции понимания музыки. Вот это мне кажется принципиально важным. А если посчитать еще время с начала представления первой нашей оперы (это был, по-моему, 2012 год), так опера уже получается шесть лет живет. Ещё вернусь к словам Насти. Она сказала, что это для нее как бы прыжок с парашютом, так вот для меня это путешествие оказалось опытом крайним, так скажем. Я на тот момент довольно активно и успешно культивировал определенный собственный язык, стал уже на тот момент более или менее узнаваемым в своей маргинальной тусовке современной музыки, но «Сверлийцы» потребовали от меня неожиданным образом совсем другого языка. То есть я написал оперу тем языком, о которым вообще не подозревал, с которым не мог себя сначала идентифицировать, поэтому первая постановка для меня была сложным внутренним периодом, я не узнавал себя в зеркале. Я понимал, что, да, это я, но, странно, у меня совсем другие черты, какие-то видимо сверлийские, проступили. И этот сложно давшийся переход в какое-то новое состояние на самом деле стал очень важным этапом на моем композиторском пути, потому что, получив первый опыт подобной дистанции по отношению к самому себе, я понял, что не могу уже остановиться, я подсел на этот сверлийский наркотик. Я снова и снова настраивал по отношению к себе вот эти дистанции в очень разном направлении уже в другой музыке, которую писал после «Сверлийцев». Но именно «Сверлийцы» стали порталом, возможностью видеть себя со стороны и не узнать. Это то ощущение, которое для меня очень важно по-прежнему, к которому я стремлюсь. И, что забавно может быть по поводу портала, перехода и так далее, моя часть начинается с настоящего портала-перехода. Это полчаса унисона, один звук «ля», который звучит полчаса, чуть-чуть перекрашиваясь на фоне него, ведется некий рассказ, но музыкально это был для меня довольно неожиданный шаг, для самого себя неожиданный. Если вернуться к словам Филиппа, по поводу того, как опера сама себя написала, как шесть композиторов неожиданно составили целое, моя опера начинается с этого получасового «ля». Опера Раннева, который не слышал моей оперы, не знал… я никому из композиторов, которые позже вступили в проект, не показывал, специально не хотел давать слушать свою оперу, потому что мне было интересно, как каждый пройдет вот этот свой путь. Так вот, опера Раннева заканчивается получасовым ми-бемолем, точнее, мне бы хотелось, чтобы она так заканчивалась. Но ми-бемоли у Раннева, конечно же, присутствуют. Ля и ми-бемоль составляют вместе интервал, который называется тритон. Тритоны – это одна из рас сверлийцев. Соответственно, вся опера оказалась в пасти такового вот сверлийского тритона.
Б. Ю.: Боре (Филановский – прим. ред.) свойственно, на мой взгляд, героически брать на себя самые трудные закутки мироздания и давать возможность им быть услышанными. Он выбрал очень сложный текст, построенный на игре с глубинами иудаизма, потому что «Сверлийцы», оказываясь в нашей реальности, именно здесь и сейчас, становятся новыми евреями со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда они в древности – там они как бы спокойно в доминирующих цивилизациях размещаются. А здесь вот у них такие необычные интересы для воплощения возникают. И, соответственно, там игра с иудаизмом подразумевала очень серьезное понимание этих самых глубин. И Боря проявил невероятное знание, тонкость и беспощадную власть над вот этой иудейской игрой в наше время, создав огромное, сложнейшее произведение, справившись с той безумной философией, которая напрямую прямо там звучит. Я передаю ему слово.
Борис Филановский: Я просто хотел сказать, что, мне кажется, я из всех композиторов – единственный, кто воспринял это все не как игру, не как игровое создание миров, а как действительно что-то вроде паралитургического текста. Отсюда и получилась скорее не опера, а оратория. И это было связано с тем, что этот текст очень разнообразный, с ним совершенно невозможно было сделать что-то, если представлять его как что-то линейное. И от него надо было отстроиться, выстроить какую-то дистанцию. Единственную дистанцию, которую можно было выстроить, – это дистанция, которая существует между священным текстом и его толкованием. Некоторым образом, я как бы принял свою часть текста за что-то вроде Торы, простите. Но в этом тоже, конечно, есть какая-то ироническая дистанция и пересмешничество, в самом этом жесте, что я целиком доверяю этому тексту, вне зависимости от того, что в нем происходит. Но с этим текстом невозможно было иллюстрировать, невозможно было озвучивать, его можно было только комментировать и толковать, что я и попытался сделать. И эту серьезность, которая возникает в связи с этой моей позицией, я вас призываю не слишком всерьез ее воспринимать.
Б. Ю.: Знаешь, на самом деле опера Бориса и опера Дмитрия вместе составляют в композиции романного текста увертюру, и я так и писал, что это две литургические формы, которые не могут существовать в принципе: одна литургия – это сверлийская литургия, то что Митя создал, а вторая – как бы иудейская литургия, которую создал ты, Боря. Поэтому получилось вот просто идеально. Поразительно.
Б. Ф.: Если у Мити очень мало в музыке (мало не в смысле, что это плохо, а в смысле, что опера Мити – это что-то одно), то у меня получилось как бы много чего, много разных музык. И для меня это тоже был очень важный опыт, опыт отказа от внутренних императивов: что можно, что нельзя, – преодоления внутренних запретов, и понимания того, что на самом деле никем быть невозможно. Это возможно только в сериале «Игра престолов» и в Сверлии, потому что там есть конкретная ария на эту тему. Желание быть никем, которое у меня, кроме сегодня, образовалось в этой форме, началось с того, что я как бы позволил себе протечь по этому причудливому ландшафту Бориного текста, не дорожа тем, что я был такое и что я сочинял 3-4 года назад, поэтому это был важный опыт выхода из себя.
Б. Ю.: Вот это постепенное стремление к исчезновению – то, что нас объединяет в Электротеатре. Что-то вроде сингулярности. Сингулярность все спишет. Правильно исчезнуть во времени. Спасибо вам за внимание!