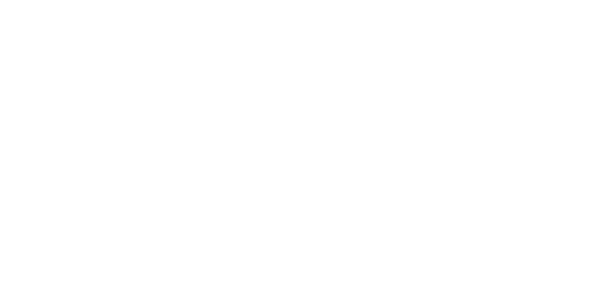В феврале 2024 года состоялась премьера кинотриптиха “Безумный ангел Пиноккио”. В московских кинотеатрах прошла серия специальных показов с обсуждениями. Публикуем расшифровку беседы Бориса Юхананова со зрителями в кинотеатре "Иллюзион" 11 февраля 2024 года.
Еще одна такая встреча состоялась в Каро Октябрь, расшифровку этой беседы мы публиковали ранее.
Кристина Матвиенко: В «Пиноккио» в каком-то смысле открыта новая технология — того, как людям, которые в театр, возможно, не ходят, показать театр?
Борис Юхананов: Я бы не обобщал. Я вообще не обобщаю людей, мне кажется, у разных людей есть разные интересы. Я в этом смысле на себя ориентируюсь. Вопрос в чем?
К. М.: В том, что вы изготовили особенную вещь, на которую люди пойдут не как на театр и на кино, а как на что-то третье. Что перед нами за вещь?
Б. Ю.: У тебя продюсерский вопрос, но я попробую ответить. Художник — это шелкопряд. Он срет шелком. Если он шелкопряд, то срет шелком. Если он другой какой-то, он срет чем-то другим, простите. В этом смысле, когда художник что-то делает, он просто делает. Может быть, он не формулирует, что и для кого он делает, но тем не менее. Вот у нас в театре есть бутафор, замечательный парень — мы с ним решили сделать сундук, делали его долго, все тщательней и тщательней, выполняя очень конкретные, ремесленные задачи, а не ища ответ на вопрос «что я дам зрителю?» Я дам зрителю очень качественно сделанный сундук и красивый. Для меня хорошо сделанный фильм — это качественный, такой, каким я хочу его сделать, вместе с Олегом, прекрасным мастером-бутафором, сундук. А потом ты думаешь — или кто-то за тебя думает: «а можно такие сундуки пустить в тираж»? Я сразу скажу — невозможно, сундуки, которые даришь человеку от сердца, не тиражируются. Поэтому я не могу ответить с точки зрения продюсера на этот вопрос. То есть в кино можно пустить уникальный сундук в тираж — этим кино отличается от театра. Спланировать продакшн — это фабрика. Тут выращивается искусство, срется, это часть экологии. А там делается изделие, фабрика. Это диалектика плода и изделия: в одном случае ты воспринимаешь мир как агрегат, как собрание машины, а в другом — как растение. Вселенная может и есть растение. Вот эти растительные, садовые, плодово-ягодные отношения мне ближе. А дальше рынок — но я, к сожалению, не специалист по рынку.
К. М.: А как сделать, чтобы с экрана переливалось это театральное живое?
Б. Ю.: Правильно снять и смонтировать. А самое главное — иметь живой материал. А иначе ты ничего не сделаешь. Аттракцион тоже нужно уметь сделать. Большой Голливуд — тоже аттракцион — сейчас весь ушел в сериал, а там имитация психической игры, которая тебя захватывает, историей, сюжетом. А здесь нет ничего, кроме попытки создать красоту, но красотой сегодня пренебрегают, как мы знаем, она не материализуется для человека в форме аттракциона. Но игра живая, не связанная, как писал Делёз, с запрограммированными реакциями актеров… Неореалисты сбили реакции, они стали как у людей — когда мы видим аттракцион, там реакции все запротоколированы, они сделаны как реакция на ему поданную ситуацию или реплику. Если он выйдет за пределы этой программы, зритель очнется и проснется, и ему не понравится этот сбой. А в театре нет протокола реакций, никаких актеров не дрессируют, у них непрерывная игра, в отличие от дублей, и рождена сразу как непрерывная. Поэтому надежда на то, что этот поток, эта энергия будут переливаться в зрителей неотфильтрованными, она останется.
Сочетание особого рода диалектики — искусственного и естественного, особенно тут, где очень сложная пластическая техника дель арте, особенно дальше, во второй части, она [техника] кажется очень искусственной, но она тщательная. Вот есть у нас один великий спектакль — русский балет, создан правда французами, но не важно — по сути, это один спектакль с точки зрения очень сложной техники, в которую вставляют разные истории и сказки. А это другого типа спектакль, который принадлежит на самом деле мистериальным корням европейского искусства дель арте. Это тоже сложная техника, ей надо обучаться несколько лет — сначала делают без всяких масок, будем делать голову, плечи, корпус, реакции и тому подобные вещи. Дальше дают искусство говорить — слово должно быть окрашено особым образом уже со сделанным телом, то есть тебя создают заново из тебя самого, по сути. Пиноккио — такой маски вообще не было, тут другие маски в спектакле, их очень много. Я целый акт вычеркнул — надо жестко себя вырубать. У меня восемь часов идет спектакль, делался три года. Восемь часов отсняв, я понял, что половину отрежу и не буду показывать.
А живьем идет два дня и, надо признаться, аншлаги. Сейчас февраль, а в марте у нас будет «Пиноккио» — билетов уже нет. Восемь часов! Приходят разные люди, я люблю демократический театр. Я не знаю, что такое элитарный, не понимаю этого. Едят все за одним столом, если вкусно.
А маску Пиноккио сделал Юрий Федорович Хариков, художник-постановщик. Он сделал ее специально вот с этим ветром. Это две маски, потому что два Пинокиио, ангелическая душа, не поддающаяся манипуляции. А сейчас такое время — лучше быть идиотом, чем поддаваться манипуляции, вот они такие девочки, очень разные, с ними ничего нельзя сделать. Женская душа не брутальная, тонкая, но очень сильная.
Дальше для них была создана специальная пластика, голоса, которые они тренировали — можем гордиться тем, что предложили европейской культуре нового персонажа, и это реальное предложение.
К. М.: Можно вопрос отвлеченный немножко? Вы сейчас говорили про красоту, что время не располагает к тому, чтобы красоту изготавливать. А там в спектакле вот эти два режиссера — отвратительные оба.
Б. Ю.: Я к ним не отношусь.
К. М.: Но они плохо обращаются с девочкой.
Б. Ю.: Они с ней беседуют как с равной.
К. М.: Унижают ее. Там есть вопрос про изнасилование, помните? Вы же это вставляли, в пьесе Вишневского этого нет.
Б. Ю.: Ну да.
К. М.: Вот, второй вопрос. Героиня Маши Чирковой, актрисы, она кричит, что она все это придумала, чтобы ее пьесу заметили.
Б. Ю.: Да, она так кричит.
К. М.: А вы обесцениваете всяких феминистских деятелей, то есть эти два режиссера. Потому что все смеются.
Б. Ю.: Тогда прошу прощения у всех феминисток. Я не хочу никого обесценивать, я же не лавочник.
К. М.: Мне просто интересно, кто это придумал. Там много было реплик — острых смешных шуток по поводу реальности — кто их придумал?
Б. Ю.: Как кто? Я.
Господь Бог все придумал — в театре все придумывает Господь Бог. У шуток нет автора. Как говорил Фома Аквинский — Неизвестный архитектор вселенной. Надо смириться с тем, что наша самость, наше я не может претендовать на остроту. Они посылаются, кто-то их принял, и все. У авторства должны быть свои пределы — надо поделиться со всеми миром. Отдай и будешь получать. Так с даром и так с шуткой.
К. М.: Кажется, что в фильме нет конкретного финала — это намеренно?
Б. Ю.: Сейчас процессуальное искусство находится в напряженных отношениях со временем, и время это работает с разомкнутыми структурами. Мы сами живем в ощущении конца или в круге, но он не настал. Поэтому все нарративы и сюжеты стремятся не замкнуть тебя, а разомкнуть. Надо же давать свет человеку — размыкать предстоящее, поэтому лучше не завершать, не запаивать. Вот, например, если коснуться страшной истории, связанной с историей нашего отечества, — блокады. Бесконечно жесткая, звериная даже ситуация, которая стирает сначала рефлексию, мышление. В человеке есть несколько царств. Есть царство Человека, сознание — стирает. Есть царство Животное, оно стремится к власти — стирает. Есть царство Растение — стремление к богатству — стирает. Есть царство Минералы — желание пожрать и потрахаться — стирает. В результате ничего не остается от человека, как и от Пиноккио. Ноль — это и есть действие блокады, дай бог, чтоб нашему времени не пришлось пережить это чувство. Но когда он дошел до дна, то вдруг начинает подниматься. С ним что-то происходит. Мистериальный нарратив в блокаде заключается в том, что можно реально подниматься и заново рождаться. Мистериальная структура — только одна в сказке, а другая прямо в жизни — коснулась людей, семей, и это страшно. А если представить, что у целых поколений начинается эта стерка, только медленная? И какая сейчас стадия — мы дошли до дна или еще дойдем? И кто ее устроил — это результат войны или механизмов истории? И в первый ли раз цивилизация переживает такую блокаду или это постоянно возобновляется? Много вопросов. Но если мы замкнем, отрубим тот момент, что после абсолютного обнуления всего сюда может вернуться свет жизни, рассказы такие я считаю бессмысленными.
Зритель: Расскажите про вашу дружбу с Никитой Михайловским.
Б. Ю.: Никита был свет, луч солнца, мы снимали с ним андеграундные фильмы. Прекрасный художник — делал лубок русский, как никто другой, и гениальный артист, который в 27 лет умер от лейкемии. А 27 лет — это граница, которую проходит юноша, молодой человек. Если он ее проходит, он может жить потом долго. Это одна из трагических границ жизни, которая назначена человеку. А познакомились мы на грани между питерским андеграундом в первой половине 1980-х и театром, который оба мы любили. И он был звездой тинейджерского такого нежного кино. У нас будет показан фильм «Ленинград. Ноябрь» в память об Игоре Кечаеве, который тоже ушел, но в 61. Этот фильм, снятый очень хорошим оператором Олегом Морозовым, Царствие ему небесное, очень тонко и точно передает вторую половину 1980-х. Там есть и Никита, Царствие ему небесное. И вот это «Царствие небесное» приходится делать рефреном, когда я говорю о своих друзьях — ничего не поделаешь, время идет.
Зритель: Красота, как вы говорите, — один из ваших основных ориентиров. Вторая часть «Пиноккио» показалась сделанной как антикрасота — это специально так? И в целом каково ваше отношение к красоте и бывает ли антикрасота?
Б. Ю.: Может, вы путаете историю и красоту? Вот, например, Босх — он рассказывает адские истории, но я бы не сказал, что он атакует красоту. Он точно так же ищет гармонию, сочетание цветов, компонует фигуры. Красота — это работа, она не связана с месседжем. Красота — это работа формы. В античности и в Просвещении было два понятия формы: внутренняя невидимая структура процесса или вещи, и она должна быть абсолютно гармонизирована, а есть та, что снаружи — и тогда к ней начинают лепиться разного типа месседжи, пропаганда нравственно-морального толка. А, как мы знаем, пропаганда — это относительная вещь. Если мы возьмем историю философии, историю религии, мудрецов, мы увидим в них много общего, но много и разного. То есть для манипуляции понятиями «реальное», «красивое» существует огромное поле. Но красота располагается в сопряжении. Помните, у Заболоцкого «сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде»? Это банальность, но в банальности иногда прячется попытка высказать существенное. Поэтому нет у меня попытки создать антикрасоту, я не сумасшедший. Как можно воевать? Если ты сделал красоту, потратил на это часть своей жизни, сделал, например, потрясающую фарфоровую вазу, но изображающую член дракона, а потом пришел и разбил ее о камень, который тоже выточил, вот что это за жест? Совершил акт антикрасоты? Ты заклял китайского дракона или продолжил что-то делать в жесте отчаяния? Если ты знаешь, что ты сделал, то пиши статьи. Красота должна оставаться в тайне самой себя, как женщина.
Зритель: Как приходят идеи костюмов?
Б. Ю.: Голова, в которую это приходит, это голова Насти Нефёдовой, с которой я все время работаю, она огромный мастер и очень чуткий художник. Художник начинается не там, где материя: театр — не тоталитарное искусство. В театре нет царя, хотя функция есть такая — это парадокс. На самом деле в театре происходит очень тонкое накопление коллективного художественного тела, и каждый берет на себя свой маршрут. Вот представьте себе — парит камера над огромной равниной, где скрываются горы и города. И мы видим, как вышли четверо путников, ты в начале видел их у дома в небольшом городе, они о чем-то говорили, ужинали, провели ночь, и пошли в разные стороны — один через гору, другой в туннель, в какие-то леса третий углубляется в пустыню. И по пути переживают массу приключений. Иногда замирают и связываются друг с другом — а потом идут своими путями. И снова сходятся в этом городе — один достает из мешка костюмы, другой из шкатулки огромной достает макет, третий лютню сверх электро, которая сама издает музыку, а четвертый ничего не делает: он тот, которому это все дарят. Он и есть режиссер.
Зритель: Сколько вкладывалось идей и игры слов, которую мы можем с первого раза не считать, или локальные шутки актеров?
Б. Ю.: Вы не должны думать. «Должны» возьму в цветные кавычки, потому что это слово хорошее, но оно ничего не значит. Территория искусства волшебная и свободная, это не подпольная организация, мы не хотим кого-то свергнуть, мы просто живем и хотим, чтобы радость, которую мы переживаем, перешла как можно большему количеству людей, детей, стариков, животных, птиц, растений, звезд, минералов, квантов (квантовая территория открыла для нас радость жизни). Никто не делает никому никаких посланий. Раньше было такое в Азии: вот он достал цветок, положил его и смотрит, а цветок белого цвета — и ты думаешь: «все, надо вешаться». Но в искусстве такого нет, это в жизни все послания, шифры, скрытые смыслы. Это все территория, где люди друг с другом воюют, или пытаются обмануть, или тайно что-то передать. А в искусстве это может отражаться, но уже в цвете, и в этом смысле там нет разговора через шифры, закодированные смыслы, и вам не надо тщиться их разгадывать, просто доверяйте своему восприятию, и мы будем снова встречаться друг с другом.
Зритель: Вы уже сказали, что половина не вошла, а в той половине, которая вошла, было что-то, переработанное для фильм-версии?
Б. Ю.: По вышеописанному ничего тут не перерабатывалось, а доводилось до предела, необходимого для участия в фильме. Спектакль постоянно развивается, важной частью его является зона реприз. Игра красоты и реальности, которая очень актуальна сегодня, как ни парадоксально — разные есть техники, подтексты, разные способы проникновения реального. От экстатических форм до прямых выпадов, арсенал, при помощи которого новая риторика времени достигает своих реципиентов, невероятно размножился и будет еще богаче. Как богатеет мускулатура человека, когда он трезвеет и идет против течения, против ветра. Искусство всегда против, поэтому оно будет развиваться в эту сторону. И тут есть опасности культуризма, самозабвения, разного рода подчинения ландшафтным катаклизмам. И, конечно, все это мы с вами увидим. Часто провокация идет не от художника, который стремится к красоте и не держит фигу в кармане, сегодня это вообще не нужно, это примитивно. Ни скандалы, ни партийные заявления — «я с вами» или «я не с вами» — это унижает художника. Политическое как таковое опасно сегодня для художника, оно превращает его в карлика. Но «красота» и «актуальное» — сама по себе эта связка, столкновение, динамика, в которой существует эти темы, потому что касаются души, трепета чувств, обостряется. Очень много псевдухи. Посмотрите, какое количество щелкунчиков заполонило сознание зрителей. Вдумайтесь в это название — щёлк-кунчик! Здесь щёлкает зубами что-то: может быть, время! Как будто на клыки тебя берут и отщёлкивают. Так обращаются с блохами, — вот куда отправились души. А при этом это сказка, все хотят окунуться в сказку. Парадоксы времени. Но актуальное в этом имени — щелкунчик — это «щёлк». Можно нащёлкать столько семечек и накормить ими времена, что мало не покажется. И это напряженная сейчас ситуация.
К. М.: А что же делать художникам?
Б. Ю.: Это к Чернышевскому.
Зритель: Вы упомянули двух актрис, которые в спектакле дублируют каждую фразу — мне казалось, что это один из ключевых нюансов. Тогда какой смысл вы закладывали в это дублирование, если в фильме оно оказывается не столь важным?
Б. Ю.: Это разные виды искусства. Это не просто не столь важно, это здесь вообще выведено. В театре в моменте живом, здесь и сейчас происходящем, все располагается между двух Пиноккио, в зазоре, который возникает еще музыкально. Это момент акустического решения, как метаопера — ведение двух этих партий, при этом и энергетически разных. Оно очень важно, это удвоение (не раздвоение, а удвоение), потому что средства акустической репрезентации происходящего в театре другие. Здесь другая музыка и другое отношение с персоной. Изначально у Андрюши Вишневского в пьесе написан один персонаж, и так как место нарратива повышается… Я и за время игры понимал, Маша [Беляева] впитала Свету [Найдёнову], в ней есть Света. Это не тыкается зрителю, но она содержит своего близнеца в себе — как бывает, когда близнец умер, а второй остался. Способ плоского экрана таков, что, если б я все время вертел при монтаже две фигуры, у вас бы зарябило в глазах, и это невозможно было бы воспринимать. А в театре это естественно — располагается в пейзаже, в глубине. Были еще и другие резоны, но они фатального характера: Маша решилась сниматься в пандемию, а Света нет. Может, я и совершил бы ошибку и снял бы двух Пиноккио, но Света отказалась, и я понял, что это подсказка мне — и переделал весь цикл съемок, 30 смен почти, и мы сняли так.
Зритель: Из фильма выброшены семь этажей, по которым перемещался Пиноккио, нет ли в этом потери?
Б. Ю.: Вы всегда можете увидеть это в спектакле — он идет почти час, дель артевский акт. Здесь другой тип динамики. Ад во многом состоит из миров, которые сократили. Намерение сократить имеет в себе демонический характер, а по отношению к тому, кто смотрит — ангелический. Дель артевский акт — абстрактный акт, метафизический, на грани, полный живой энергии и достаточно монохромный в своих средствах, не берущий собой историю никак. Час показывать это в кинотеатре — повесить себя публично, даже перед самыми доброжелательными зрителями, мне это не нужно. Тем более содержательная часть дель арте здесь есть. Поэтому я убрал, сняв и смонтировав перед этим. Мы очень тщательно снимаем спектакли — на ПТС, то есть просто многокамерно, не делая ничего особенно с монтажом. Как фреска — там уже ничего не сделать монтажом, надо все очень точно заранее организовать.
Зритель: Просто при просмотре фильма видны те тонкости, которые при просмотре спектакля могут быть упущены. Поэтому, если он будет когда-то в более длинном варианте, это будет очень хорошо.
Б. Ю.: Она есть. Потому что у нас своровали [версию], где она снята, эта часть. Но я буквально вчера попросил этого не делать. Надеюсь, нас услышат. Нехорошо воровать у бедного маленького театра снятый им спектакль и его выкидывать в сеть.
Зритель: Какие ваши любимые режиссеры и художники? Здесь я увидела достаточно Дэвида Линча и, может быть, еще кого-то не усмотрела. А кем вы вдохновляетесь?
Б. Ю.: Я люблю всех, у меня нет любимых. Ну, Мурнау я могу выделить как режиссера, но это период немого кино, а так я стараюсь адекватно относиться к каждому режиссеру. Не в отрицательном настроении сознания, свойственном времени и особенно людям, которые вместе что-то делают. «У поэтов есть обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга…». У меня такого обычая нет, я ищу возможность восхищаться художником, а не критиковать — и в этом смысле учиться. Линч —прекрасно. Но я бы не сказал, что он центрирует мое внимание. То, что он вам видится, прекрасно. Я очень горд этим, это прекрасный замечательный режиссер.
К. М.: Почему вы так долго и давно хотели сделать «Пиноккио»?
Б. Ю.: Это не так устроено, что мы хотим что-то сделать. Было так. Андрюша — «московский барчук», жил в доме политбюро. Отец его Андрей Битов, а отчим — Вишневский. Советский академик известный, хирург. И там огромная квартира, мы ее громили раз в неделю под благословляющие слезы его мамы. Мы любили сказки, а так как отец был великолепным писателем, а мама очень открытой, там собирался цвет советской литературы. Прекрасная атмосфера для того, чтоб там незаконно созревало отстегнутое, свободное гуманитарное сознание у 16–18-летних детей. Поэтому Пиноккио появился как естественный отклик, а это не забывается. Дай бог каждому так существовать — художник и должен так существовать: на свободе его внутренних струений. Он не должен себя закабалять, подчиняя каким-то социо-культурным… А дать возможность созревать тому, что ему посылается. Не в трагической перспективе — не надо на себя все это гнать. Вот, как дети рисуют, потом так и же и Леонардо Да Винчи рисовал. Вот оно возникает, а потом из этой каляки-маляки сознания, из баловства души возникают, возможно, самые сокровенные вещи. И это долго растет. Вселенная — растение, и каждый цветок в своем ритме. Когда ты молодой, хочется ускорить это движение и есть опасность вырвать цветок. А можно оставить все в естественном режиме, и само вырастет. Вот это и есть — мы долго работали над «Пиноккио». Само все получается. Потом работали, но это уже профессия, она должна быть тебе подчинена в строгости своих правил. Спасибо вам за разговор.