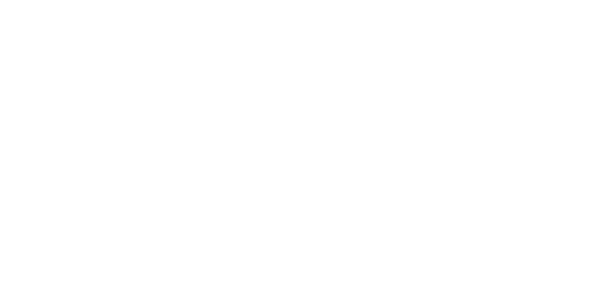3 февраля 2024 в КАРО «Октябрь» состоялась премьера кинотриптиха “Безумный ангел Пиноккио”. После показа прошла встреча с режиссером Борисом Юханановым. Ведет Дмитрий Ренанский.
Борис Юхананов: Мы снимали фильм, разделив спектакль на множество кусочков в дублях, которые должны были безупречно повторяться. Артисты делали два-четыре дубля, потом операторы выходили на сцену на роликах и начинали ездить вокруг повторяющегося того или иного эпизода, и их маршрут строился так: вначале эпизод игрался, операторов тренировали, как ездить, а потом уже шла съемка и сразу с записью звука, потому что потом звук невозможен. Звук надо писать точно и в абсолютной тишине. И мы писали звук, а они ездили уже сами, оказываясь танцовщиками, которые вбирали и впитывали своей камерой происходящее.
Дмитрий Ренанский: У вас были киноопыты в 1980–90-х годах. “Пиноккио” — следующее ваше путешествие в кино. Интересно было бы посмотреть на человека, который утром посмотрел ваши фильмы 1980–90-х, а потом “Пиноккио”. Наверное, у него взорвался бы мозг. В каких взаимоотношениях находитесь вы тогдашний и вы сегодняшний? И как в этом смысле соотносятся способы построения киноязыка?
Б. Ю.: Это кино, а то — видео. Медленное видео. Это большая разница на самом деле. Можно я коротко скажу, а то боюсь, что у нас задымятся зрители? Есть макет и есть модель. Кино требует макетирования, даже если его предметом становится театр. Кино — это все равно искусственно созданный мир; он должен быть весь абсолютно откалиброван, не обязательно предварительно на бумаге, но все равно ты имеешь дело с чем-то уже подробно выстроенным, завершенным и еще не существующим, но устремленным в искусственный мир, который ты сделал и создал. И дальше весь вопрос — как его передать на пленку, собрать в монтаже и сделать. Это всегда искусственно сконструированный мир, даже если он кажется нам другим, и он конструируется очень подробным монтажом. И этот мир одноразовый — в конечном итоге в нем невозможны вариации. А видео — это модель, движение от реального к искусственному, поэтому тебе не надо его складывать, не ты его сложил. Дальше ты в него внедряешься и начинаешь среди этого не тобой сотворенного мира жить какой-то специально искусственной жизнью.
Если в кино должен жить в первую очередь мир, то здесь должен жить ты, снимающий кино, и твоя жизнь, в силу свойств одновременной записи звука и изображения — то есть больших возможностей, которые предоставляет нам камера, — получает синкретизм единства звука и изображения. Тематически я даже не обсуждаю радикальность и свободное настроение 1980-х, которое могло выражать себя в разных видах искусств. Но для видео свободное настроение было решающим — искусство пробуждалось из-под власти смерти, в которой оказались слова в силу постсоветского синдрома, где все слова умерли. И в видео они начинали оживать, поэтому был очень пламенный запал к речи, импульс к речи, а видеоречь вместе с действием улавливает этот запал прекрасно.
Здесь же все другое — это не видео-, а кинокамеры, они все равно ограничены с точки зрения и света, и звука, и постановки мизансцены. А потом монтаж очень подробный и в конечном итоге вердиктовый — будет так, и ничего не вернешь. А видео — это матрица, ты снял, пока у тебя была энергия, был контакт с реальностью, ты напроказил, наперформанизировал свою собственную жизнь, сделал что угодно со своими друзьями, это у тебя хранится в цифре, и ты можешь делать из этого любые вариации — видео, театр, кинематограф, разные виды искусства.
Д. Р.: Я хочу попросить вас дать небольшой комментарий о мире Пиноккио. Ваши крупные проекты — что “Сверлийцы”, что “Нонсенсорики Дримса”, что “Пиноккио” — кажутся всегда побочным продуктом по отношению к вселенной, которая существует параллельно и в которую вы просто приоткрываете дверь посредством проекта. Как это устроено? И это только часть мира, который создал Андрей Вишневский, ведь вы поставили только две части, оставив одну часть за кадром. Что в этом мире самое важное и почему он вас так волнует?
Б. Ю.: Мы с Андреем давно дружим, он потрясающий драматург, и я уже даже не знаю, что в этом мире рождено им, а что я там родил. Мы с ним дружим с 16 лет, мы вместе учились у Эфроса и Васильева, и уже тогда Пиноккио начал мерцать в нашей жизни. Потом, он первый новопроцессуальный драматург, все его сочинения находятся в эволюции, он их постоянно развивает. Поэтому у нас постоянно огромные пергаменты текста, потом они меняются, вырезаются или возвращаются на место — и вот эти пергаменты начинают приобретать свою топологиию, ты начинаешь внутри них жить — со словами, ситуациями. Мне свойственно жить одновременно в реальности и в параллельной реальности. Я люблю сказки, фантастические истории, мне они часто кажутся реальнее реальности. Я слышу постоянно параллельную реальность — не как сумасшедший… ну, может, и как сумасшедший. Она как бы существует, и каждый человек существует в освобожденном от захвата реальности красоте мира. Вот там подлинная реальность человека и пребывает.
А пиномифология заключается вот в чем. Однажды Творец решил сокрыться, до этого был небесный театр — как одно из проявлений рая, сада, — где жили эти паяцы, ангелы. А когда туда поступали другие души, они тут же начинали участвовать в жизни, все вместе переживая радость встреч, судьбы и др. Потом Творец сокрылся, умер, как Ницше сказал, и тогда появился срединный мир и нижний мир. И срединный мир сказал: ну отлично, будем сами жить, и тогда начались свои отношения между срединным и нижним мирами. А сверху, где уже не было Творца, который давал радость, души начали валиться в срединный мир. Творец в срединном мире оставил своего представителя — Джепетто, который получает валящиеся туда души и отправляет дальше жить. Из нижнего мира появляются насекомые — муравей, который вылез, чтоб захватить очень важный кристалл — и начинают захватывать все. Так разворачивается невероятная история отношений жителей двух миров. А Пиноккио, как особый любимец Творца, послан последним — у него практически отсутствует сознание, недаром он читает “Идиота”, хотя читать не умеет. Но сознание он неотвратимо получает. А дальше больше — он получает миссию. Миссия Пиноккио заключается в том, что он за собой не оставляет ничего, ноль. Это принцип апокалипсиса. И так он движется. Сейчас он обнулил театр, и теперь пойдет по жизни.
Зритель: Хочется поблагодарить за фильм, было прекрасно и необычно. Вопрос — как различаются методы работы с актерами во время съемок и в театре?
Б. Ю.: Когда работаешь с артистом, а у нас все артисты в театре замечательные и я их очень люблю, ты проходишь большой путь. Когда ты снимаешь артиста, уже сложившего большую роль, это большой путь, но уже не путь — артист играет, как мастер, не надо им особенно управлять, можно лишь поправить какие-то нюансы качества в связках и ракурсах. Кинематограф все равно остается фабрикой — артист сам все сделает благодаря опыту, мастерству и своему слуху. Поэтому его важно снять — он становится в каком-то смысле объектом, не субъектом.
А работа в театре — это раскрытие субъекта, который дальше сам себя, как соавтор, должен превратить в объект, оставшись живым субъектом, и дальше каждый раз возобновлять в себе свою живую личность, осуществляя себя как объект перед зрителем в точности и повторе спектакля. Вот здесь сходство есть, потому что, как я вам рассказал, в дублях тоже требуется себя повторять. Часто в кинематографе много химии: актеру достаточно однажды что-то сыграть или торгануть своей физиономией, а потом он может это уже забыть, потому что за него это будет хранить пленка. В театре не так. В театре все должно быть кристаллизовано на разных уровнях. В каком-то смысле это разные профессии, и актеру театра опасно много сниматься: он выходит на сцену стертый, ему потом надо восстанавливать объемы своих энергий, смыслов, личности, отношений с залом. И там и там есть своя жертвенность, но природа ее разная. В театре актер жертвует собой. А в кино — временем своих зрителей.
Зритель: Тоже хочу поблагодарить за новую жизнь этого материала в киноформате. Как в спектакле возник образ ансамбля актеров, читающих ремарки, и как выстраивался кинообраз этого ансамбля? То, что мы видим перенесенный на экран жизнь этого ансамбля, я считаю маленьким чудом.
Б. Ю.: По-простому — это хор. Но не имитирующий античный, имеющий другую функцию — протоколировать. Здесь же дополнительная функция — хор поет не город, не реальность, как в античности, а поет текст. Как объект. Потому что Андрюша [Вишневский] безапелляционно свободно выстраивает текст, невзирая ни на технические возможности времени, ни на что. Его ремарки являются полноценной частью его большой кристаллизующей работы с текстом — и это другой тип ремарок, чем тот, что был в старые времена, когда драматург советовал театру, как играть. Поэтому чаще всего продвинутая режиссура работает так: понимая, что диалог драматург пишет по-новому, а ремарки по-старому. В ремарках спрятан известный драматургу театр. Андрей же скорее диалоги пишет в классическом принципе, а вот ремарки разворачивает очень по-своему, с присутствием метафизики. В этом — предложение театру, поэтому для меня принципиальным решением было позвать наших замечательных артистов, которые были способны принять этот текст, двигаться в нем по действию, то есть принимая разбор, структуру, перспективу игры, принимая на себя то, что в диалоге происходит, и передавая дальше, отдавая диалогу. У этого всего — довольно сложная глубинная структурация, которая репетировалась разными стадиями и режимами. А потом еще абсолютно жестко я принял на себя жизнетворческий образ Манджафокко, ну или Карабаса в тоталитарном режиме, чтоб каждое движение пальца было поставлено. И мы долго этот “манджафоккизм” театра содержали в Электротеатре. А потом туда хлынула волна хора, диалога, и это могло не соединиться, но соединилось, слава тебе господи.
Д. Р.: Это тоже черты процессуальности проекта?
Б. Ю.: Новопроцессуальное искусство обнаруживает себя там, где, чтобы осуществить целое, надо устанавливать каждый раз новые правила и их открывать. Потому что то целое, которое не связано с точно определенным финалом, открыто в будущее, и тебе приходится двигаться в сторону встречи с целым, находясь в режиме неизвестности. И тогда тебе надо каждый раз открывать правила — ты не можешь воспользоваться ничьим предыдущим опытом, тебе надо каждый раз открывать что-то конкретное в технологиях нашего общего дела. Вот это прямо соответствует новопроцессуальному искусству и тем вызовам, которые оно перед нами ставит и в жизни, и в искусстве.
Зритель: В театре одним из главным является эффект обмена. Каким образом этот обмен с залом удается создать на экране?
Б. Ю.: Может быть, он есть потому что и то, и другое — изначально театр? То есть не стремится отражать, лишено в подлинном смысле репрезентации, но здесь и сейчас создает реальность. Природа театра такова: не создашь — не будешь. Поэтому возникает особый контакт, обмен, и зритель, если он не стремится просто уйти в иллюзию сюжета, чутко это чувствует. Кинематограф большого стиля, не артхаусный, отрабатывает не только фреймы сюжета и ожидания добра, зла и морали, но он еще отрабатывает реакции актеров — мы ждем их. И если эти фиксированные фреймы, устойчивые штампы осуществляются, мы удовлетворены. Я не имею в виду док кино — там другие энергии совсем. Но в театре на самом деле вы все время имеете дело с живой реакцией, здесь и сейчас рожденной. Актер не просто формирует перед вами персонажа, как на эстраде, он формирует невидимую структуру игры, то есть действия, и в этом особого рода неповторимость, трепет существования. Поэтому, возможно, когда это еще подернуто мистериальным запалом, возникает обмен с залом, о котором вы говорите.
Зритель: Большое спасибо за прекрасный фильм. Я почувствовал какую-то обиду за кино — весь фильм представляет собой освобождение паяца, вы артикулируете их боль, а за рамками существуют паяцы от кинематографа, операторы, вся инфраструктура, которая существует, чтобы их освободить. Вы одних освободили, но ценой других. Почему не было освобождено кино?
Б. Ю.: Вы сейчас предложили прекраснейшую интерпретацию увиденного. Мне ничего из того, что вы говорите, не приходило и не должно было приходить в голову, но я счастлив, что зритель оказывается соавтором, позволяющим себе абсолютно субъективную, индивидуальную интерпретацию увиденного. Он решается на это, он становится моим соавтором. У меня было понятие такое: “автор-изготовитель” и “автор-потребитель”. Вот это новый зал — в нем сидит множество прекрасных лиц и каждый решается на собственную смотровую площадку. Раньше, в советское время, все смотрели одним глазом. Как пираты, которые хотели под воздействием одного принципа захватить корабль восприятия. А сейчас перед нами — многоглазый, многосердечный зал с разным слухом и интерпретационными возможностями. Все изменилось — во всяком случае для арт-кино и для арта, все стало искусством действия, процесса. Поэтому я вам благодарен за вашу интерпретацию.
Д. Р.: Здесь мы смотрим “Пиноккио” глазами оператора Александра Ильховского и вашими глазами, а в театральном зале — иначе. Как устроен процесс перцепции там и тут?
Б. Ю.: Когда ты делаешь что-то, ты, конечно, окутываешь работу текстованием. Это не интерпретационная работа, но невидимо присутствующая. Ты пользуешься вкусом своим и не должен рефлексировать по пути. Все происходит в секунду, то есть работает то, что можно назвать интуицией. Но интуиция — это не то, что предшествует развитию твоих взаимодействий с произведением, а то, что их завершает — когда ты все знаешь, тогда интуиция и просыпается, тогда ты можешь очень быстро без рефлексии работать. Ильховский работает на своей территории, я — на своей, и мы должны с ним так договориться, чтоб было понятно без слов, потому что время — деньги.
Д. Р.: А не жалко того, что осталось в корзине?
Б. Ю.: Нет, я уже привык, что надо отсекать. Я тут делился с кем-то — я всю жизнь помню наставления Васильева по этому поводу. Когда я делал “Фауста”, переведенного Пастернаком так хорошо, что немцы хотели его перевод заново перевести на немецкий, то мне хотелось каждый выдох, каждое слово зафиксировать. Васильев посмотрел и сказал: “Понимаешь, вот есть пример Гротовского — он сделал 20 часов “Стойкого принца”, потом взял топор и вырубил из них 40 минут, а остальное ушло”. Такой он дал совет, я его принял, естественно, и стал делать 6-дневные, 21-дневные проекты — ну, у нас другое время, другое поколение, свои ошибки. Но когда ты делаешь кино — надо вырубать и расставаться. А в театре зачем расставаться? Театр — это счастье жизни же.
Зритель: Философский вопросик.
Б. Ю.: Тогда будет ответик.
Зритель: Хорошо, вопрос: в каком мы мире находимся, в срединном или нижнем?
Б. Ю.: Я думаю, не надо обобщать, сами решайте. Все, ответик я дал.
Зритель: Спасибо за это прекрасное кинозрелище. Я прочитал текст раньше, до всех премьер, и он мне показался гениальным. Когда я стал смотреть фильм, я понял, что вы пустили действие параллельно текстуальности. Как вы пришли к мысли, что нужно донести текст ремарок чеканными действиями этих ангелов-ремаркеров? К решению, что либретто нужно два раза озвучить?
Б. Ю.: Так сразу и собирался делать, не было долгого пути, это иначе не сделаешь на самом деле.
Зритель: Хочется, чтобы вы до конца довели и сняли еще часть.
Б. Ю.: Это еще 2 млн долларов. Я еще как продюсер говорю, это же огромный труд. Андрюша [Вишневский] — совершенно уникальная личность и автор, но ставить это трудно, за этим стоит наше многострадальное время.
Зритель: Я считаю, это подвиг вас и вашей команды.
Б. Ю.: Спасибо вам.
Зритель: Видела спектакль в театре, сейчас увидела кино. Вы говорили о трудностях переноса театра на экран. Решитесь в будущем на такой эксперимент?
Б. Ю.: Да, на это я готов отдать часть своей жизни, это тяжело, но мне это интересно. Я вот делаю проект “Пикник”, и я хочу перенести его на экран. Но скажешь — и не дадут сделать. Но хочу.
Зритель: Спасибо за фильм с той точки зрения, что удалось увидеть в нем исполнения ролей Владимиром Кореневым. И вопрос — в спектакле Пиноккио играют две актрисы, а здесь одна — с чем это связано?
Б. Ю.: Маша [Беляева] дерзко и мужественно вошла в эту съемку в разгар пандемии и продержалась все 30 смен. Это жизненный момент, витальный. А Света [Найденова], и я ее очень хорошо понимаю, не решилась на такое путешествие. Мы снимали в июле 2020 года, и я собирался вначале пойти на жуткую работу и снять близнечный мир, сыгранный двумя актрисами. И на этот аттракцион их взаимодействия было нами потрачено очень много рабочего времени и сил. Но когда я услышал о решении Светы, а я внимательно отношусь к алеоторике происходящего в жизни, стараюсь различать слова, которые мне кто-то говорит, из-за вышеперечисленного мной выше недостатка — умения слышать параллельные миры, я понял, что мне подсказан ход. В Маше ее близнец остался за эти годы работы. Я был знаком с несколькими близнецами — когда близнец умирает или очень далеко удаляется, он остается в другом особым образом страждания. И тогда я понял, что на тонком уровне Маша будет это передавать — и она замечательно это делает. Поэтому здесь есть второй Пиноккио, которого мы просто не видим.
Д. Р.: Это потребовало бы радикального усложнения всей структуры?
Б. Ю.: У Андрея написан один Пиноккио, это я сделал двух. Ну и потом нужно пожалеть зрителя. Ему и так достается здесь, а так тотальность прекрасной шизофрении усилилась бы в два раза.
Зритель: Хочется вам сказать спасибо за “Назидание”.
Б. Ю.: Ну, этот фильм еще не показывали. У меня такой фильм есть о футболе, он лежит на полке. Спасибо вам.
Зритель: Мир звука в этом фильме очень интересен. В “лесной” части мы слышим очень подробно ангелическую шумотеку тела Пиноккио, в “Театре” слышим пространство, в котором находится это тело, но не слышим само тело. Была ли специально сочинена работа со звуком, будто тело Театра это и есть тело Пиноккио?
Б. Ю.: В каком-то смысле в “Театре” сочинена метаопера, и это правильно, потому что возможности Электротеатра позволяют сделать звук телесным. Более того, речь там устроена радикально — кроме того, что написана другим композитором, моим соавтором и товарищем Дмитрием Курляндским, но еще там есть хор, и звуки гуляют по периметру зала, для чего есть специальная система. И хор ремаркеров говорит на самом деле на алеоторике — это не расставленная речь, а речь, которая все время свободно между собой притесывается. Поэтому в “Театре” у меня было два этапа работы со спектаклем: в связи с речью и в связи со звуком. На первом уровне — в метаопере — речь, как это часто бывает в опере, жила подспудно, а в чистом виде был хор. А дальше мы вытащили артикуляцию и текст стал различаться лучше и больше. В “Лесу” он жил алеоторическим объемом, который можно назвать сонографией — этот термин предложил для нашей работы Курляндский. То есть там присутствует материализация, в этом смысле можно говорить о телесности, да.
Зритель: О чем вы мечтаете?
Б. Ю.: Я? А вы приходите, у нас будет опера “Нонсенсорики Дримса”, и послушайте, там рассказано, о чем я мечтаю, я так не смогу коротко ответить.