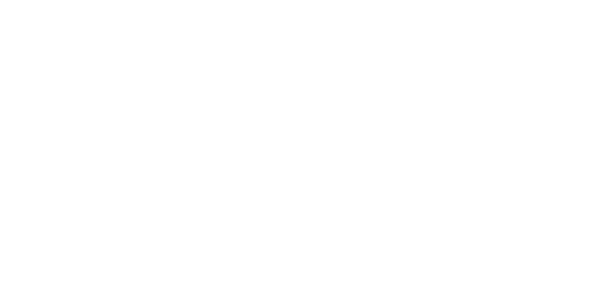15 октября 2023 года завершились показы масштабного проекта Бориса Юхананова и МИР-6 по римским трагедиям Шекспира. МИР РИМ шел на Малой сцене Электротеатра в течение целого месяца, за который было показано 47 спектаклей в 21 вечер. Параллельно Электротеатр проводил лабораторию с участием горожан, обладающих разным профессиональным опытом и бэкграундом, — они смотрели проект, рефлексировали его сложную природу, встречались с художниками и композиторами. Итогом этой лаборатории стал зин, посвященный МИР РИМ. А 31 октября в фойе Электротеатра состоялась презентация коллективной работы лаборатории и разговор с Борисом Юханановым.
Недавно мы публиковали видеозапись встречи, а вот ее расшифровка.
Полина Юдина: В самом начале я рассказала о формате встречи: мы сначала презентовали и рассказали про зин, над которым работали на протяжении всего этого времени. И вот к нам пришел Борис Юрьевич. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Это как раз вторая часть — тот самый неформальный разговор, ради которого мы здесь. Если вам нужен будет микрофон, вы можете поднять руку, я к вам подойду.
Борис Юхананов: Спасибо, ребятки. Вот лаборатория, прекрасный зин вы сделали. А недавно я вообще узнал о существовании такого понятия «зин». Раньше я думал, что это просто песня Высоцкого: привет, Зин, что-то там, магазин... Ну, это издержки моего сознания. А оказывается, что зин — это такая прелестная модель коллективного универсума, где может уместиться созидательный отклик людей, общее впечатление, которое люди получают от театра, или от спортивного какого-то мероприятия, например, или еще от чего-нибудь. И похоже, что такого рода протяженные проекты, как их ни называть, являются таким раствором для того, чтобы, черпая из него созидательную энергию, в которую превращается отклик человека, независимо от того, как функционально он по жизни определился, собрать это в некое единство.
Это прекрасно. Вы сегодня об этом опыте чуть-чуть рассказали, и во мне естественная благодарность за ваше участие. Совместно какой-то период жизни мы проживали: вы в зрительном зале, мы — на сцене, вы оказались участниками этой стадии проекта. Прекрасно.
Что такое встреча со зрителями? Так или иначе, это же не то, что мы сидим друг против друга и жмем бесконечно внутренние руки друг другу, или совершаем бесконечные объятия, или еще что-нибудь делаем. Это что-то, наверное, другое. А что это такое — всегда вопрос. У всего этого роится множество тех или других форматов общения в ограниченное время. Например, вы мне задаете вопросы, а я на эти вопросы по мере своих сил отвечаю. Или другой формат, который редко бывает, но он тоже возможен: я вам задаю вопросы, и вы, все чудесные и разнообразные личности, которые нашли время и пришли сюда, на них по мере ваших сил отвечаете. Или мы смешиваем одно и другое. Или наша встреча превращается в такую постлекцию. Вот вы что-то увидели, а теперь я даю развернутый комментарий в виде интересной или не очень лекции по этому поводу, которая не подразумевает никаких вопросов, никаких ответов — слушайте и повинуйтесь. Такое тоже возможно.
Или это беседа. А что такое беседа? Что выводит беседу за пределы вышеописанных коммуникативных форматов? Чем она тогда может оказаться и как ее организовать? Ну, я понимаю, сидят люди, пьют кофе, болтают... Наверное, в беседе, если она вышла из-под власти функции той или другой, есть множество форматов общения — интервью, например. Но не может целый зал взять интервью у докладчика или, наоборот, докладчик взять интервью у целого зала. Как можно оказаться на территории беседы, когда такое количество прекрасных и очень разных людей? В общем, много вопросов к тому, что такое эта встреча.
Парадоксально, что в наиболее естественный момент… но это мы сделаем после маленького перерыва, потому что я заядлый курильщик, невзирая ни на что, и поэтому я предлагаю очень щадящие ритмы в нашем общении, учитывая, что я нахожусь под властью неисчерпаемой страсти к дыму. Поэтому мы сделаем перерывчик, перекурим и опять продолжим задумываться над тем, зачем мы тут собрались, и так потихонечку пройдет время.
Я думаю, что, может быть, из всего вышеперечисленного самым спокойным и естественным форматом являются вопросы, на которые я попробую ответить, или, допустим, на них попробуют ответить участники, мои соавторы, участники проекта и мои ученики в каком-то смысле. Я вижу их светящиеся лица среди цветов этого прекрасного зала. И они могут тоже задавать вопросы, эти светящиеся лица и цвета этого зала. Но мы сделаем перекурчик сейчас, чтобы еще отбить часть, если вы не против. После этого задавайте вопросы, и мы так смутируем во все возможные форматы из перечисленных мною или не перечисленных. Вот такое предложение к сегодняшнему вечеру. Какое-то время на это у нас есть. Нет каких-то принципиальных возражений и связанных с этим предложений о способе нашего общения? Сегодня таких принципиальных возражений нет.
Перерыв.
Б. Ю.: Есть функция, которая называется «модератор»...
*в зале выключается свет*
Стало темнее, а было лучше. Кто-то, может быть, прислонился к чему-то? Иногда бывает, прислонился и выключил. А можно включить свет? Что случилось, катастрофа? А к кому я обращаюсь?
*свет включается*
Давайте начнем с самого естественного и простого. Если у вас вопросы любого характера, пока я здесь нахожусь, хотите что-нибудь спросить, спрашивайте.
*рука в зале*
Б. Ю.: А ты смотрел?
Из зала: Одну часть, один фрагмент.
Б. Ю.: Давай, спрашивай.
Из зала: А насколько тяжело выдерживать такой большой объем принимаемой энергии и воспроизводить нечто объемное, циркулируемое, со всеми данными работы? В общем, так я хотел просто сформулировать свою мысль, как вы сказали — когда назреет вопрос, подождать… Но вопросы точно есть.
Б. Ю.: Вообще, жить тяжело, я бы так тебе сказал. Так как театр или вот такой большой проект — часть жизни, то все основные тяжести связаны с той тяжестью, которую принимает на тебя человек в самой жизни, это первое. Есть конечно, и специальные аспекты. Они связаны с тем, что для того, чтобы оказаться в практических отношениях, в отношениях подлинного художественного, то есть цельного участия внутри такой программы, цикла или спектакля огромного, или серии — ты не просто вдруг туда вошел и оказался, а это связано с очень серьезным и большим, особым образом структурированным процессом подготовки рождения проекта.
Вот это одна большая и очень важная фундаментальная территория работы — то, что можно обозначить как «подготовка», и то, что за этим стоит, это тоже отдельный большой разговор. А следующая часть связана с образом постановочного потока. Это вторая огромная часть работы, но несоизмеримая во времени с предшествующей частью. Предшествующая часть на порядок превосходит ее, и она имеет совершенно другие свойства.
Следующая часть, которая включена во вторую, но может быть нами осознана как отдельная часть внутри большого второго этапа — это собственно осуществление самой постановки и ее фиксация во всех в инструментах, нацеленных на то, чтобы в дальнейшем обеспечить ее жизнь. И это множество инструментов.
Следующий этап — это, собственно, игра, начало жизни вот этой огромной машины. А вот следующий этап, который тоже касается сложности очень серьезной, но совсем уже другого типа, он связан с тем, как происходила жизнь этого проекта уже на пост-постановочной территории в момент, когда он встретился со зрителем. На этом этапе он рождался таким образом.
Это было очень большое напряжение, оно было нами подготовлено, но оно было очень большим. А связано оно было с тем, что уже после проведения всех репетиций, осознания, подготовки всей материальной части, в перспективе того, о чем я сейчас расскажу коротко, мы вышли на очень осознанную и очень непростую акцию. Мы подключили к этому съемку.
Что за этим стояло? Сюда во двор приехали два автобуса, напичканные аппаратурой. Большая группа техников, операторов и режиссеров. ПТС система, имеющая простые форматные свойства, которые можно употреблять по-разному, то есть одновременная съемка с множества камер и монтаж во время съемки. Я позвал компанию, с которой я давно взаимодействую и которой руководит (он и ведущий оператор одновременно) Владимир Кузаков, который еще в «Саду» был, то есть который давно знаком со мной лично. Более того, уже когда стал существовать Электротеатр, именно его компания осуществляла в основном всю съемку, я понимал уровень и качество работы этой компании. А он понимал ту систему сложностей, которая перед ним будет стоять.
Плюс к этому наш режиссерский штаб, который, как верно вы заметили, был организован на моменте выхода из фундаментального процесса подготовки и жизни этого проекта, совмещенного с процессом обучения режиссуре… Был организован штаб, совместно с которым мы и вели подготовительный этап выпуска, сам выпуск и дальше этот штаб режиссерский, куда входило множество замечательных моих товарищей и учеников, продолжал свою работу. И когда к этому прибавилась съемка, которая, конечно, не была, погружена в глубины этого проекта, каждый раз рядом находился тот или иной человек из режиссерского штаба, который помогал сориентироваться в идущей съемке.
Таким образом, утром мы начинали. К этому моменту уже была подготовлена вся система съемочная, операторы, сделаны все коммуникации, подведены к этим автобусам. Это очень непростой процесс. Начиналась съемка, мы выходили на съемку, реализуя эту постановку, то есть первыми зрителями этого проекта оказывались кинокамеры, операторы. В этом смысле этот проект проходил — я это очень хорошо понимал, и именно на это я шел — особого рода ванну, в которой он должен был искупаться всеми своими частями. И, участвуя в так организованном растворе, эти части проходили особого рода естественную обработку, результатом которой оказывался материал, уходящий в хранение, матрица своеобразная.
Я сейчас описываю один день из 21 дня. Понятно, что в этот момент могли быть те или другие происшествия. Важно, чтобы вы поняли, что до этого была только складка, постановочная работа, где рождался финальный постановочный текст каждой части, каждой композиции (тогда я это так называл, но можно сказать — спектакля). То есть это не просто 21 вечер, это 47 спектаклей, которые вобрали в себя два предыдущих этапа: этап обучающий и художественно-созидательный, в котором рождалось вещество работы ребят, их комментарии к ним — они тоже на протяжении более чем двух лет, почти три года, если я не ошибаюсь, переживали свое становление, откликаясь на концепт и тему этого проекта. Но концепт и тема — это просто триггер, с которого начинается работа. А на самом деле каждый день та или другая работа оказывалась перед заинтересованными зрителями, среди которых был и я, исполняя свою функцию, условно, мастера. Эта работа происходила с самых разных сторон, с опорой на определенные фундаментальные законы, связанные с осуществлением новопроцессуального проектирования, а при этом с исследованием внутри себя тех правил и техник, накапливанием инструментария, который давался в образовательной, в учебной территории, построенной на других методиках.
Довольно сложный процесс, который, конечно, можно подробно описывать и нужно, потому что он имеет объективное значение, но я пока на этом не буду останавливаться, чтобы не выродиться уже в серьезную лекцию или цикл лекций — это другое будет. Так или иначе, процесс шел, каждая работа в нем участвовала, переживая взаимодействие с ребятами, с самой собой, с разной степенью интенсивности и характера множеством комментарийных векторов, анализа. Постепенно в эту работу входило и оказывалось очень продуктивным участие композиторов. И вот каждая работа росла и развивалась на этом первом огромном этапе — в общем-то, абсолютно закрытом, длящимся, как мы уже вот сейчас обнаружили, два с половиной года.
Этот этап завершился большим, специально организованным, полуоткрытым событием на Камерной сцене, где все эти работы в том или ином порядке, рожденном из определенных логик, как бы рождались заново внутри уже целого процесса. В альма-матер, то есть в том же самом архитектурном объеме, где шла сама работа — они опять были сыграны, но тут уже присутствовал зритель и созидательный комментарий или особого рода соучастие мною было ограничено. Я просто смотрел вот эту стадию. Что-то я мог говорить, но для меня это был уже другой процесс, а я смотрел на эту стадию уже из будущего, потому что дальше моя функция менялась. Точно так же, что еще не было известно ребятам, изменялись и все их функции. И мне лично надо было сообразить, как вот из этого прекрасного разнообразия становления каждой работы обнаружить новую цельность и как бы открыть и решить, есть ли возможность нового процессуального организма и так же этих этапов.
В момент таких решений или такого рода движения работают в первую очередь не только мозги. Конечно, осознание — это уже свойство личности, опыта и так далее, оно тоже принадлежит этой работе. Но во многом тут работает интуиция. И когда я понял — и решение это было за мной, это была моя функция — что я готов к тому, чтобы в это двинуться… При том, что я этот предстоящий этап подготавливаю в диалоге, пока закрытом от ребят. Диалог был с художником в первую очередь, но этот диалог для меня не является новостью как принцип, потому что я давно нахожусь с художником, с Ваней Кочкаревым, в очень продуктивном и понятным в своих технологиях диалоге. И к моменту, что тоже было важным, принятия решения о том, что мы отправляемся в следующую стадию проекта, которую можно обозначить как «постановка» в новопроцессуальном понимании этого слова (а что это такое новая процессуальность — это отдельный тоже разговор), я решился на это, а вместе с этим на все то, что можно обозначить системой сложностей, связанных с этим.
Происходило это уже после того, как была объявлена спецоперация, и решение это было естественно, очень непростым актом, потому что одновременно с этим полностью изменилось время жизни страны, отечества, людей. Особенно это первое время — возникла вообще другая ситуация, которую тоже можно обозначить как сложность. Как это всегда свойственно в принципе войне, разомкнутое пространство жизни становится замкнутым. Сама война его замыкает, то есть возникает в воздухе времени раствор, наполненный общими для всех людей контекстами и переживаниями. И вот в этом замкнутом пространстве они начинают роиться, тем самым формируя в теле любого проекта, в художественных организмах людей, в их сознании общность темы, которая может не называться, а при этом она существует.
И тогда у проекта открывается новый ракурс осознания самого себя. Он начинает осознавать себя в свете актуального времени и различать концептуальную интуицию, которая позволила ему таким подойти к моменту этой огромной, по сути, исторической, перемены. А в момент вот таких складок истории начинает работать что-то, что находится за границами этих складок истории, но одновременно с этим принадлежит тому, что осторожно можно описать как мифологическое сознание. И если открывается миф, он может открыться потом, уже в речевом нарративе, но может проснуться и взорваться внутри интуиции художника (что и произошло со мной, например). И когда я оказался на территории этого внутреннего взрыва, я в свете этого взрыва, в работе тех напряжений, которые с этим были связаны, заново различил все потенциальные свойства и реальные, уже проявленные, вереницы работ, и их потенциальное взаимодействие между собой.
Это серьезным образом подействовало на окончательность моего решения, что я все-таки отправлюсь в этот этап путешествия, который можно обозначить, со всеми своими девелопментами и так далее, как постановочные. Вместе с тем, как совершалась постановка коллективным телом, уже образованным с существующим у нас функциями, вместе с этим прояснялась интуиция мифа, интуиция связи и так далее. Множество всего. Все это накапливалось не там, где мысли об этом, это уже был не такой этап. Все это накапливалось и восходило в форму при осуществлении материализации в режимах, которые свойственны работе художника в широком смысле этого слова — он уже делает и через это мыслит или даже говорит. Меняется все, а главное, что не остается никакого времени и никакой необходимости — более того, это даже становится опасно — на рефлексию. Место для рефлексии как бы переносится в прошлое и будущее, то есть его как бы и нет — а это уже действие, акт. Вот на это надо решиться. И когда мы на это решились, это надо было очень правильно организовать. Это уже опыт, связанный с работой постановки.
Мы оказались на этой территории, прошли ее, и тогда очень важно было правильно встретить эту работу. И вот важнейшим здесь моментом на первом этапе была не только встреча со зрителем, а между этой встречей со зрителем и самой работой постановки надо было расположить фильмическую территорию, и нам это удалось. Не сразу мы поняли, что это во всей полноте удастся сделать. Здесь очень много материальных аспектов, финансовых и тому подобных вещей. И все это касается жизнедеятельного круга работы. Про круги работы в новопроцессуальной технологии — это отдельный разговор. И когда это уже стало ясным, то фильмический этап, стадия рождения этого процесса по полной сработал. Он как бы отдает себя и на сам этот процесс — это то вещество, при помощи которого он скрепляется, может зажить окончательно и правильно. Это не просто фиксация, это воздействие на процесс.
Тогда день сложился. Утром мы снимали. В 19 часов мы начинали играть, и тут все аспекты работают — и связанные с тем, что можно обозначить как «работа с открытым космосом социума», которому в пределах своих и предназначен маркетинг. Поэтому мы начали играть, в 19 часов к нам приходил зритель. Это была напряженнейшая работа Электротеатра, потому что понятно, что на вот этой территории он [проект] в принципе изначально существует — в этой встрече Электротеатра и Мастерской индивидуальной режиссуры. Но здесь все это невероятно обострилось, потому что на постановочном этапе со всеми его частями, Электротеатр полностью вступил в игру. Это огромное количество служб, в которые входили люди, уже начавшие свое взаимодействие с МИРом в ракурсе этого проекта. Таким образом, это была огромная такая рабочая территория, где происходили эти встречи и шла эта работа. Изготовление костюмов, решение множества материальных проблем и художественных задач, работа гримеров, работа по изготовлению сценографии — от нуля до совершения, все это было в этом этапе. Распределение необходимых решений, связанных с общими стилистическими подходами. Например, Китай. Или все взаимодействие с миром дорам, который был избран как очень важная часть работы с воплощением Рима. «Строгий юноша», например, фильм тридцатых годов, стилистика которого тоже была нам важна для определенных целей. Само по себе постепенное распределение на части: «Подмостки», «Дорога», «Элизиум».
Все это возникало на особого рода территории взаимодействия общих решений и свойств работ. Работ намного больше было, но определенные работы по разным и, в общем, всегда очевидным причинам уходили. И постепенно выяснялся состав тех произведений, которые должны исчезнуть в новой композиции, стать другими. Это постепенный процесс, который можно сравнить со сплавкой. Или, если представить, как плавится золото, оно возвращается в свои свойства, а потом обретает новую форму. Может быть, можно с этим сравнить, а может быть, и нельзя, потому что тут много нюансов.
И вот мы играем зрителю, и потом мы выходим через ВК, который мы выбрали своим партнером, для трансляций. Как бы прямых трансляциях (хотя это была прямая трансляция, если говорить о дне), но это была не совсем трансляция, потому что тогда были бы разрушены все смыслы съемки, да и качество ее. То есть они начали бы конкурировать и соперничать просто с театром. А, как вы понимаете, когда идет съемка, вот здесь, уже на территории съемки, начинается возвращение продуктивной рефлексии, которая вся еще и нацелена на общее осмысление этой общности, целостности заново рожденной композиции. Она в рефлексии — а это моя функция — должна заново себя различить и начать воспитываться и развиваться в свете этой рефлексии. Но это не просто рефлексия и не просто комментарии культурологические, а это работа режиссера.
И вот тут начинают возникать особого рода свойства, которые принадлежат новопроцессуальному методу: когда разбор спектакля, плодоносящий, рождающий разбор должен быть после спектакля. И там много переворотов не только в этих функциях, но и во множестве других, на которые я могу только намекнуть через метонимию вот этого момента, например, а не вообще через все и все описать. Иначе вы бы оказались перед таким бормочущим Карлом Линнеем, который начал бы вам перечислять и классифицировать. Может, это и хорошо, вы бы уснули, кончились и родились заново. Но на это я не решаюсь, на такой тип общения я не пойду сейчас.
Именно патафизическое начало оказалось частью, только именно одной из глубинных частей, при помощи которых интуиция заработала как постановочная работа. Это был тот принцип, который сделал возможным все остальное. А так как по пути это подхватывалось работой постструктурирующей… Тут сочетается структурирующая работа с постструктурирующей работой. Много сочетаний. Все это по-другому, чем в форматах производства спектакля, по сути, любого. Но патафизика — это не просто словечко Жарри — полупьяного подростка, который однажды его изобрел в беседе со своим другом. Это огромная традиция, которая, подхватив это словечко, полностью его изменила. Просто словечко родилось, так и стало целым движением в среде множества гениев западноевропейских, в первую очередь французских, потом осознало себя как клуб патафизики. И среди академиков, членов этого клуба — величайшие имена западноевропейской культуры и не только. Это очень серьезное движение, и свойства его вполне досконально описаны в книге «Патафизика», которая была издана за несколько лет до описываемых событий.
В этом смысле патавселенная рождается из этих свойств, которые сейчас мне тоже недосуг перечислять. Это такое дао-искусство, можно так сказать. А образы или нарратив рождаются уже дальше и выясняются заново — в том, как откликается в созидательном действии эта художественно-философская и жизнетворческая территория культуры или искусства (а это разные вещи).
Так или иначе, первый день произошел, и пошло-поехало. Это напряжение: утром съемки, когда все должно безупречно работать. Потом небольшой перерыв, а еще разбор, который заново формирует игру в людях, вдруг открывает потенциальные возможности или связи, которые даже еще не были открыты. Подготовка, потому что это постановочный театр, здесь все до секунды выверено, все элементы — тут нет никаких возможностей смещений, поставленный свет, определенная кантилена мизансцен и так далее. То есть это сделано так, чтобы быть при этом еще и повторяющимся театром, а не просто, как это бывает: ты снял что-то, нахимичил, сделал дубли и потом из них делаешь что-то, что совершенно не призвано для того, чтобы потом повторяться. Здесь не так. Хотя при этом мы не знаем, удастся ли нам все это повторить. А параметры этого проекта сенсационны в том смысле, что я, например, не знаю, где в мире кто-нибудь мог бы такое сделать по очень разным причинам. Ну, стоимость этого была бы вообще зашкаливающая. Это у нас 70 зрителей, то есть это не шоу на 1000 людей. Все это в принципе патаэффект, даже на маркетинговой территории этого проекта.
Мы провели и услышали это как целое чудо. Я вам пытаюсь рассказать механизмы осуществления чуда. Но это чудо, это все возникло и родилось. И очень-очень жалко, если мы не сможем дальше это играть. А природа времени очень усугубляющая. По пути какие-то люди оказывались недостижимы, а для них недостижимо участие по разным причинам, ну и так далее. Все вы понимаете, что за этим стоит.
И тогда мы намечаем календарь. А это же очень твердая работа, надо абсолютно точно наметить календарь и определиться, разместить свою жизнь в связи с этим полутора- или двухмесячным календарем, решить проблемы выживания в этот момент, потому что это не тот процесс, который питает жизнь, это тот процесс, который питает жизнь другими свойствами, но не материальными, и, наоборот, забирает эту жизнь и заставляет ее служить самому себе.
Сама эта связка, она принципиально иная, чем это происходит в обществе потребления. И в этом смысле основная критическая сила этого проекта в том, что он есть и может быть. Потому что тогда он утверждает что-то другое о самом этом обществе и времени потребительском. Он говорит, что может быть другой путь, и самим фактом этого пути он это время растворяет или совершает очень серьезную критику этого времени, осуществляет ее доказательным образом своего состоявшегося бытия и развития, которое в нем продолжается. И когда мы сыграли второй раз, мы услышали, как в каждом из нас растет и формируется осознание того, что мы делаем. При всех трудностях, в которой происходила весенняя сессия, мы решились на третий раз. Это само по себе как бы невозможное решение, и мы на него пошли. Будучи готовы к тому, что нам придется… Какие-то я выкрикивал в вечность лозунги типа «Редукция не пройдет!», но мы все равно понимали, что она может просочиться и воздействовать на то, что мы делаем по обстоятельствам, которые выше нас.
Тотальность форсмажора сопровождает замкнутый космос войны всегда на уровне жизни: смерть, спасение, ловушка и тому подобные вещи. И этот персонаж — тотальный форсмажор — он как бы растет вместе с усугублением войны вместе с той метаморфозой, которая происходит во времени жизни всего мира, всей Земли, на самом деле. А это связано с тем внутренним мифом, который созревал и развивался по путям этого путешествия. Мы решились на третий раз, и мы его осуществили во всей полноте. Единственное, что заставило нас сделать время и каверзы этого форсмажора — это изменить композицию.
Но это было не подневольное изменение, а наоборот, это было обогащение. Потому что над каверзами форсмажоров времени существует еще что-то, что выходит за пределы истории как таковой. Эта сила черпает себя из другого источника, который как бы доисторический. И имя этому источнику, если очень коротко сказать, миф. Хотя можно очень по-разному различать, что такое миф. Сила мифа, претворенного в проекте, дает возможность встретиться ему даже с такими коварными фигурами, как форсмажоры времени. И тогда меняется общая композиция, обогащая сам процесс.
Так и произошло на третьем этапе. Но эти изменения связаны с дополнительными коммуникативными, организационными сложностями. Входят новые люди. Надо быть постоянно очень мобильным, каждый человек должен испытывать особого рода ответственность, связанную со зрелостью его понимания и участия не только в собственной жизни — самость, эго и так далее — но и в жизни целого. Для этого он должен это целое все время осознавать и раздвигать в себе контакты с ним.
Все это невероятно важная работа, которая касается индивидуального становления каждого участника проекта, включая меня, естественно. Включая даже Электротеатр. Переработки, например, цехов и всех вообще людей — они зашкаливающие, они невозможные для театра. Если бы были нормальные профсоюзы, они бы уничтожили этот проект в корне. Но у нас нет этих профсоюзов. А вот для того, чтобы на первом этапе осуществить момент, когда снятый материал превращается в материал, который выходит «ВКонтакте», надо на огромной скорости сделать рамку и вообще массу операций. Вот Игорь, который сейчас снимает, он руководитель нашего видеоотдела. Он должен был это делать — в диалоге со штабом, но все равно. И звук, потому что звук же записывается снаружи, и он идет в этот фильм, а при этом пишется изнутри по куче дорожек, каждый микрофон — вот этот звук не доходит до зрителя через «ВКонтакте», а он хранится в матрице, так же, как монтажная редакция.
Все это следующий этап работы. Вы понимаете, что это монтажная редакция, включающая звук, цветокоррекцию, субтитры, титры и тому подобные вещи, которая происходила параллельно с тем, как шла вся эта работа. Буквально через месяц-полтора выйдет уже готовый фильм-сериал, в котором будет 47 серий — «МИР РИМ». И он будет уже соотнесен с физической формой существования и с этим этапом существования проекта. Одновременно с этим фотограф — выдающийся фотограф, а не просто забегающий сюда интересант, мы давно находимся в очень напряженном и художественном прекрасном диалоге — вел фотосессию непрерывно в первом этом проекте. А это уже не фильмическое отражение. Сделано больше 10 тысяч фотографий. Больше 10 тысяч — это огромный ряд.
Это очень трудоемкая [работа], но труд этот может быть осуществлен только если в нем заключена сила, дающая возможность этому труду стать счастьем жизни. При этом счастье жизни — это не вздохи по поводу красоты ромашек, которые встретились в твоем внутреннем элизиуме, это задействованность подлинного потенциала человека в осуществлении собственной жизни. Когда это происходит, вот именно этот момент можно обозначить словом «счастье». То есть это не то, что нам кажется, это не комфорт, вечный комфорт, в котором душа может окончательно охуеть в бездействии. Нет, это что-то этому абсолютно противоположное, как выясняется.
Ну вот, благодаря вопросу «а было ли сложно?» я решил так вам об этом…
*аплодисменты*
Не надо, друзья мои, я не пою песен, и это не концерт. Ну, представляете, было бы очень смешно, если мы общаемся, беседуем друг с другом и периодически друг другу хлопаем. Кофе остынет.
Из зала: Вопрос следующий: а будет ли продолжение? Будет ли МИР РИМ развиваться как-то, можно ли будет его еще раз увидеть?
Б. Ю.: Не знаю. Могу сказать, что в силу того, что это новопроцессуальный проект, конечно, могут измениться правила, благодаря которым созревают этапы его жизни. Как они изменятся, не знаю, но я понимаю, что как фильмическое тело он так или иначе будет готов где-то через полтора месяца, и тогда мы попробуем обустроить для него начало существования. Возможно, это будет происходить как серия показов. Но это не новая редакция, потому что, например, в живом процессе может происходить постоянное впитывание в себя новости жизни, смена правил и так далее, — а живой процесс, он для этого предназначен на самом деле. Но когда имеешь дело с фильмом, редакции подвержены зрители, но не фильм. Возникает же объективность, это становится объектом. Так или иначе, вот этот объект в виде недели показов и разговоров вокруг этого, в связи с этим объектом, я хотел бы сделать. Как, пока еще точно не понимаю. Дальше он может, наверное, жить каким-то образом, на какой-то платформе или еще в каких-то формах. Это то, что касается вот этого фильма.
Надо признаться, что, когда этот проект становится фильмом, он открывает себя совершенно другим. Это же не отражение спектакля, не фиксация, не документация, это еще одно новое произведение. И вдруг вы увидите в нем совершенно другие смыслы, и вообще это будет совершенно иное впечатление. Если говорить с точки зрения зрительского опыта, это и будет следующий этап вашей встречи с проектом. Это, возможно представить себе. Даже для участников проекта, то есть творцов, когда они будут это смотреть, это будет новый этап восприятия. Не в смысле домашних радостей: «Ой, блядь, это я тут!» — вот не с этой точки зрения, а с точки зрения полноценного художественного личностного контакта с происходящим и осознания вещей, которые, возможно, не актуализированы до этого были в сознании. Вот как интересно все устроено в новопроцессуальной вселенной, на самом деле. Да, пожалуйста, есть вопрос у вас?
Из зала: Да. Я, наверное, частично уже услышала ответ. Мне хотелось спросить о связях, каким образом связывались разные части композиций. То есть я так понимаю, что логика каждый раз была разная, но было ли там общее решение, или индивидуальные, или какое-то стихийное, может быть. Можно ли какой-то пример, что ли привести?
Б. Ю.: Если я правильно понял ваш вопрос, я на то, что я понял как ваш вопрос, отвечу: это тоже связано с этапами. Когда начинается постановка, кто бы ее ни делал и какой бы она ни была, абсолютно меняются функции и их свойства. В этот момент должен родиться диктатор обязательно, и я уверен, что ребята — это меня, кстати, поразило — это прекрасно услышали. Диктатор, тиран. Если он не возникнет, новый этап не состоится. Функция режиссера-постановщика тираническая, и нет никаких других возможностей, их вообще не существует. Другое дело, как в новопроцессуальном искусстве с этим можно обратиться. Например, я по своей природе вообще не тиран и не диктатор. Ну, вы же это видите.
*смех*
Я московский распиздяй, у меня нет желания кого-либо терроризировать. Ну и вообще, это глупость — все, что новая этика различает как необходимость, связано просто с нормой человеческого общения людей. Ничего нового в этом нет. Просто нормы-то нет, поэтому норма вдруг начинает казаться чем-то невероятным. Взаимного уважения, а лучше всего, любви, какой-то интеллигибельности, то есть возможности совместного мышления, уважения женщины к мужчине и мужчины к женщине, к языку, которым ты пользуешься, отсутствие репрессий... То есть дружный мир как мечта человечества, он пока не возник, и даже рай, о котором грезят люди, не имеет никакого отношения к норме. В этом его большая опасность.
Поэтому для осуществления такого рода тирании должно что-то в сознании произойти, и это уже та необходимость, которая должна быть осуществлена человеком, берущим на себя эту функцию (а это набор функций). Так как я уже давно изучаю и практикую очень сложную и очень нового типа диалектику нового процессуального искусства, я очень хорошо понимал, что со мной будет происходить на этих путях. Это связано с обретением особого рода жизнетворческого метаперсонажа, которым становится режиссер для осуществления этой функции. И в этом смысле в каком-то образе, можно так сказать: ставя спектакль, я осуществляю тотальный спектакль его постановки, и в этом смысле отдаю свойства будущего спектакля путем самого факта того, как, в каком режиме, с какими свойствами осуществляется игра, имя которой «Постановка этого спектакля».
И она точно так же конгениальными и чудесными моими товарищами в жизни и учениками… если они меня считают своим учителем. Ну, куда я денусь, если меня так называет человек? Я же не буду говорить ему перестать, я не считаю себя никаким учителем и так далее. Вы должны это очень хорошо понимать, потому что я не вдалбливаю в людей никакие методики, я вместе с людьми как соавтор работаю в принципиально новой для себя территории, что я больше всего люблю, но это самое рискованное. И вот так появляются эти мета-персонажи, которые осуществляют эти функции на радость всех участников — вот что удивительно, тут нет никаких репрессий. У меня их было четыре. Первый — это Интеграл, второй — Гелиогабал. Третий — нью-йоркский продюсер. Как его звали?
Зал: Сэм!
Б. Ю.: И четвёртый — это глава римского легиона, генерал. Удивительным образом вращаясь, вступая в инициативу в слаженном моменте осуществления постановки, эти четыре великих мета-персонажа осуществляли всю работу. Оказывается, что на территории режиссера существует особый тип театра, вообще-то мало когда и кем-либо различимый и видимый. Вот в который я вам сейчас приоткрываю окошко. Понятно?
Из зала: Да, спасибо. Очень интересно.
Б. Ю.: Пожалуйста. Мы можем спокойно передвинуться на следующий этап. У вас есть вопрос? Нужен микрофон человеку. Если у него есть вопрос, мы же должны его как-то услышать, особенно я, я же туго слышу.
Из зала: Здравствуйте. Вопрос, немножечко не связанный непосредственно со спектаклем. Я очень жаждала задать вам его лично, и у меня возникла возможность: ответьте, пожалуйста, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный актер для комфортной вашей работы с ним?
Б. Ю.: Трудно ответить, потому что в вашем вопросе есть понятие «качество», вы задаете вопрос «идеальный актер», что невозможно, и в жизни такого не бывает. Дальше вы пользуетесь такой категорией, как комфорт. Дальше вы подразумеваете такую категорию, как работа, да еще и особый образ этой работы, работа именно с ним. Вот все это вместе — это главы книги, которая описывает в своем потенциале несуществующий мир, описывает какую-то мозоль, фурункул во времени, в представлениях о театре, об актере, о взаимодействии актера и режиссера. Поэтому я бы ответил так. Мое действие по отношению к этим фурункулам такое: я их протыкаю. Актер, который готов со мной работать, или хотел бы работать, должен выйти, выдержать, как из него пойдет гной, всю ту боль, которую он испытает на этой территории, а потом еще больше захотеть со мной работать. Вот если он выдержит этот первый этап, который можно назвать как протыкание этого фурункула, доксы, представлений, иллюзий и так далее — вот тогда может начаться взаимодействие, которое в своем напряжении не терпит ни стагнации, ни бездарности и которая во взаимодействии требует постоянного напряжения физики, сознания, речи, психики, и при этом должно все время — но долженствование здесь условно, на уровне вопроса вашего — находиться в становлении и в развитии. И не ждет никаких дивидендов в виде карьеры, всемирной славы и тому подобной херни. Когда оно по-хорошему абсолютно обречено, вот с этого можно начать. Пока иллюзия того, что можно это получить здесь, в общении со мной, существует — это не идеальный актер.
Из зала: То есть, получается, что вы не можете в контексте моего вопроса хотя бы на уровне каких-то эпитетов… Я прекрасно понимаю, что мой вопрос, возможно, немного такой… Вот все, что вы описали, да, но все-таки хотелось бы представить этот идеальный мир — вот то, что находится в вашем сердце, сознании, душе и так далее, то, чего никогда…
Б. Ю.: Ну, например?
Из зала: Ну, не знаю. Вот я, допустим…
Б. Ю.: Я уже понял. Как вас зовут?
Из зала: Катя.
Б. Ю.: Катенька, дорогая, ты с кем разговариваешь, с Гелиогабалом, с Интегралом, с Легионером, вот этим генералом, с продюсером Сэмом? С кем ты разговариваешь? Или со мной? И кто я, дядя Боря, Боренька такой вот, или я Борис Юхананов? Кто я, с кем ты разговариваешь? Я в силу тотальности шизоидной или, как сказать, тотальности нашего времени не могу откликнуться по-другому. Я сейчас такую игру тебе предлагаю. И самое удивительное, никто из множества этих персонажей, которые населяют вот эту оболочку, не имеет дело с идеалами. Я теряюсь. Что я могу тебе ответить, не знаю, ничего не могу ответить, потому что эти ребята не имеют дело с идеалами, понимаешь? Они бегут от них по разным причинам, как от чумы.
Катя: Спасибо. Я поняла.
Б. Ю.: Давайте сделаем так. Я чувствую, вопросов нет больше… Есть! Сейчас, микрофона дождитесь, пожалуйста. У нас еще два этапа.
Из зала: Хотел спросить, чем обусловлен выбор тех или иных сцен. Например, сцена из «Кориолана», где беседуют жена Кориолана и дочь, которая многократно повторялась и в китайском стиле, и в мистическом, и по-разному. Почему именно эта сцена? А еще такой, наверное, наивный вопрос: какие основные темы вы видите в МИР РИМе? Темы и, может быть, идеи, с которыми вы работали, кроме идеи тирании. Ну, как я понял.
Б. Ю.: Идеи тирании — это про другой мой проект, про «Октавию». Здесь идей тирании вообще нет.
Из зала: Вот тогда интересно, какие темы и идеи прорабатываются в этом спектакле? Извините, что, может быть, наивно и прямо, но интересно было бы услышать ваше суждение.
Б. Ю.: Спасибо. Давайте я попробую именно вам ответить. Как вас зовут?
Из зала: Даниил.
Б. Ю.: Даниил, не могли бы вы сесть поближе, если вам не трудно, я буду смотреть на вас и вам отвечать. Вы же задали этот вопрос, а то, когда вас не вижу, мне труднее становится, потому что я-то себе такой вопрос бы никогда не задал. Вот сюда, если вам не трудно. Спасибо, Даниил.
Ну, что я мог бы вам сказать… Я, конечно, так не мыслю, как подразумевается в вашем вопросе. Но если это вопрос конкретно ко мне, я попробую от себя и отвечать. Я так не мыслю, у меня так не происходит. Во-первых, я не делаю выбора вообще. Идет процесс и в результате этого процесса, в котором целая огромная компания молодых режиссеров в становлении своем, своей профессии, понимании и так далее, работает в том числе и с шекспировским текстом. На самом деле мы не ставим Шекспира, а мы включаем «римский цикл» — независимо от того, подразумевал ли сам Шекспир, что это «римский цикл» — в наш проект, на него опираемся по тем или другим причинам как на целостное [произведение].
А проект этот, МИР РИМ, он описывается как бы квадратом. Ну да, тем самым «Черным квадратом», можно так сказать, это изначальный концепт выражен в такой модели. Здесь Мир. Здесь мы располагаем Рим. Здесь мы располагаем звучания трех букв или фонем, как угодно — М, И, Р. А здесь мы располагаем МИРРИМ как единое слово во всех коннотациях и потенциалах, на которые оно способно с двойным «р». Это изначально то, что было предложено как проект. Вот его наполнение связано с шекспировским циклом. Но работать предложено на всех территориях МИР или связях, которые между ними могут возникнуть. РИМ — звучание этих звуков, Р, И, М, и МИРРИМ. А Шекспир как бы расположился в центре, готовый подвинуться или увеличиваться до чрезвычайности в зависимости от той топологии, какую приобретет развитие проекта. Это триггер — это зачин концептуальный, или моделирующий зачин для этого проекта. Вот он начинается, и идут годы, люди разрабатывают это дальше. Люди, которых там больше пятидесяти, допустим, или там… неважно — мы количественно их не измеряем. Каждый — космос потенциальный, и они работают. Я вдруг обнаруживаю (ну и Шекспир потенциально тоже вдруг обнаруживает), что люди хотят делать вот эту сцену, а не эту, что они ее делают так, а не этак — это так всегда, это и есть работа проекта. Удивительно, но факт.
По пути я, конечно, размышляю о Шекспире, о свойствах его текста. Это же еще образ познания. Мы открываем природу существования игры, актера, человека на территории этого текста, чем он вообще-то является, что это вообще такое — играть Шекспира, этот цикл? А при этом идет работа над этими сценами — вот такого характера и такого, я их принимаю, каждую сцену комментирую, к каждой сцене отношусь, открываю в ней потенциал для развития. Она начинает развиваться. Но кроме этих сцен начинает появляться огромное количество других текстов, других подходов из универсума каждого творца, участника этого процесса, в котором до неразличимости слиты процессы становления профессионального тела человека и выражение художественного уникального потенциала каждого...
И все это каждый из нас, в том числе я, на этом первом этапе принимаю на себя и каким-то образом интуитивно или при помощи рефлексии, комментария, или просто прямым художественным контактом в это вхожу, и мы все вместе развиваемся. В рамках, но эти уже рамки давно [поставлены]. Как ворота. Ты же не бегаешь по городу, например, вместе с порталом, через который ты проник. Ворота остались далеко позади, а город, который постепенно открывается за ними, оказывается наполнен совершенно другим, чем эти ворота. Так и происходит в развитии, в становлении проекта. А так как каждое сознание живет в постоянной возможности для развития... Недаром мы, имея дело с практикой традиционного, но каждый раз нового... Вот как работала, например, Марина Цветаева: она делала 200 вариантов одной строки. И когда идет первый этап, в нем не может быть даже капли тиранического участия, понимаете? Это даже не просто противоположный, а абсолютно другой этап, чем тот, о котором мы только что говорили в связи с постановочным. Там нет никаких внутренних персонажей, ничего этого вообще нет. Это этап, в котором происходит процесс творческого созидания, обучения и познания, в первую очередь. Не разделенный и не ангажированный ничем, никакой будущей постановкой, никакой композицией. Вообще в нем нет репрезентативного начала ни в каких его вариациях. Это огромный этап.
Вот если он происходит, если он накапливает себя и раскрывает свои потенциалы в гармонии, забота о которой является следствием работы этих векторов: познание, созидание, обучение, становление. Если это все происходит правильно… Но что это такое, «правильно» — это отдельный разговор, потому что тут педагог, условный мастер, находится совершенно в других отношениях со всей компанией, с самим трудом, чем это принято на отформатированных территориях педагогики. Это третий, уникальный путь, которого нет ни на Востоке, ни на Западе. Но сейчас не буду этого касаться.
И дальше это становится фактом. Вот этой коллекцией, рожденной становлением проекта, а не выбором из априорного. Здесь априорное, как бы дедуктивное, скажем так, и индуктивное, в совершенно несоразмерных отношениях находятся. Индукция здесь превалирует — то есть живое становление, которое, пользуясь потенциалом, еще не известным самому себе и каждому, постепенно обнаруживает себя. Если вы подвергнете это априорной атаке с точки зрения финалящей дедукции, — а все ваши вопрошания как раз связаны с таким методом производства художественной ткани, или процессом — то вы окажетесь в совершенно другом процессе, который не отвечает ни на одну секунду тому, благодаря которому может родиться такая художественная форма. Но не сразу, далеко не сразу. И то, что вы видите, и то, что происходит на территории, во времени и пространстве описываемых мною сейчас процессов — между этим располагается еще как минимум шесть огромных этапов. Я попытался на них указать в предыдущих моих разговорах.
Поэтому даже постструктурирование — это еще очень преждевременный акт. Поструктурирование уже связано с работой поверхности тела. Это тоже другой этап, и в общем, его не происходит, на самом деле. Если говорить серьезно, места постструктурированию нет. Оно есть, например, когда работает «Параллельное кино». Вот в фильмических проектах такие процессы активно существовали в конце восьмидесятых годов, и техника постструктурирования активно участвовала в производстве фильмов «Параллельного кино». Да она и вообще всегда участвует так или иначе — это отношение макета, модели и тому подобных вещей изначального сценария и того, что получилось в материале монтажа.
Но здесь не так. Здесь нет никакого изначального сценария, нет ни макета, ни модели, которые предшествуют этому процессу. Здесь совершенно другой тип триггера, включающего и запускающего потенциалы, участвующие в развертывании, в раскрытии проекта. Правила постоянно созидаются заново. Но это не постструктурирующая работа, а это создание живой конституции, поддерживающей процесс становления дела и работы, и творчества, и познания. Это другое.
А потом на территории именно уже постановки рождаются очень важные стратегические решения. Могут и раньше, у меня вот они раньше уже были, и я это проверял. Я их сейчас назову. Вот Рим, с которым мы тут имеем дело и который мы как бы заново определяем через его свойства в познании, в изучении контекстов разных — от исторических до контекстов вот этого времени — различаем его от этого времени и вместе с ним ведущиеся войны варваров и тому подобные системы понятий, которые спрятаны в шекспировском тексте и которые надо обязательно различить, определить и с которыми надо вступить в живейшие отношения. Это большая работа разбора и взаимодействия с этими текстами. Но есть еще РИМ. Рим и есть этот цикл как целое. Он начинает различаться как стадии. Например, рождение Рима, и вместе с этим — Империи. Это «Гай Юлий Цезарь» — зрелое его состояние, которое тотальным становится. Это «Антоний и Клеопатра» — гниение, доходящее до предела. Это «Тит Андроник». И наконец — это «Кориолан». Вот это его стадии. А дальше — принцип решения, связанный со всем огромным шекспировским вектором этого проекта. А теперь представьте, что эти стадии уравнены в своем бытии и кружатся по кругу с разной скоростью, созидая особого рода такую гончарную фигуративность. Вот это решение, которое в отношениях с Шекспиром, — еще не в образном, но в некоем важном структурирующем смысле — очень определяет способ обращения с Шекспиром на территории постановки. Вот то, что я мог бы вам сейчас сказать.
Друзья мои, сделаем перерывчик? Перерыв! И впереди ваши пламенные кипящие монологи и ваш диалог с ребятами, если захотите.
Б. Ю.: А нет этой девушки, которая про идеалы актрисы спрашивала? Нет ее? Но мне сейчас пришла в голову некая формула, которая могла бы прояснить, что я имею в виду. Если говорить о способностях и обо мне… Возможно, направление какого-то ответа могло бы быть там, где я бы сказал так: способность к предельным затратам, не имеющим при этом под собой никакой перспективы. Если такая способность есть в человеке, тогда он сможет в том числе стать и актером, с которым мне возможно будет работать. Ну, я все равно говорю в каком-то таком абстрактном ключе. Вот так, друзья.
Мы можем продолжить эту игру или как-то ее перевести в другой ракурс — вопросы-ответы… Вопрос? Я, конечно, на него отвечу, но я хочу договорить. Если вы хотите, наоборот, что-то сказать — ведь такого рода желание тоже очень естественное в человеке, сказать, перевести в речь собственные смыслы в связи с тем, почему мы здесь собрались — это прекрасно и надо дать как минимум этому возможность и время, всем участникам процесса. Так что, если это есть, конечно же, мы дадим. Но если у вас есть вопрос, пожалуйста, конечно.
Из зала: В первую очередь спасибо большое. Это было очень круто, спасибо за новый театр, за тот процесс, который привел меня к определенному осмыслению того, что есть новый театр в вашем представлении и вашей… как бы корректно выразиться, ваших учеников, ваших последователей и так далее. Вы достаточно провокационно заявили в одном из эпизодов «Элизиума», что Шекспир должен сказать спасибо за то, что в XXI веке его еще ставят. И вот я хотела уточнить: как вы думаете… Понятно, что перед Шекспиром краснеть не придется, но тем не менее, как вы думаете, сказал бы он вам спасибо за вот этот подход, за то, как вы увидели, переместив это в Китай или не в Китай… короче, вот за это. И такой достаточно бытовой и можно даже сказать, мещанский вопрос: кому бы вы лично — мне очень любопытно, сказали бы спасибо за всю возможность постановки не в творческом смысле, а именно в организационно-финансовом. Вот так я сформулирую. Ну, я вижу, я чувствую, что это было непросто. Это было здорово и видно, что очень и очень дорого. И третий нет, ну, я потом уже задам, наверное.
Б. Ю.: Ну, само это слово «спаси-бог» уже определяет адресата. Вот ему я и говорю спасибо. Все остальное — это благодарность души за возможность участия в таком проекте, которую предоставляет каждый участник другому. Есть такая картинка у евреев: сидят люди с большими ложками. Этой ложкой никак невозможно воспользоваться — из этой вот миски, которая перед тобой стоит. Но этой ложкой можно накормить другого, в то время как тебя кормят ложкой. Сильно напоминает нашу ситуацию.
Из зала: У меня тогда последний будет вопрос…
Б. Ю.: Возьмите микрофон, пожалуйста.
Из зала: Вас слушать огромное удовольствие и понятно, что вопрос задается не для того, чтобы вы получить конкретные ответы, а для того, чтобы послушать вас. Так вот, чтобы не сильно грузить, мне бы хотелось, может быть, тоже неделикатно попросить вас в трех словах описать, вот буквально три слова, что вы лично получили от проекта.
Б. Ю.: Веру, надежду, любовь.
Из зала: А Софию?
Б. Ю.: А мать их София по определению является этим проектом. Вопрос или пламенный монолог? Вернее, монолог.
Из зала: Можно это будет пламенный монолог?
Б. Ю.: Делайте что хотите. Дайте микрофон человеку.
Из зала: Спасибо. Я допиваю второй бокал, поэтому решилась задать вопрос. Он правда не с бухты барахты. Скажите, пожалуйста, видите ли вы сны и снилось ли вам когда-нибудь, что в вас проникает нейросеть или вы это и есть нейросеть. Спасибо. Кстати, это вам.
*дарит цветок*
Б. Ю.: Спасибо. По поводу нейросети. Когда я — как и все нормальные люди, или ненормальные, потому что мы не знаем, кто мы такие — часто читаю в интернете вот эти предложения к самоосознанию в виде матрицы подобных вещей, я тоже задумываюсь о том, а является ли человек производством какой-то запредельной силы? Или игрой каких-то запредельных сил, которые всю нашу историю, Землю, людей образовали как такую своеобразную… не обязательно матрицу, но как искусственное образование, которое само по себе естественное и
является частью игры этих сил. И диалектика естественного и искусственного, на самом деле, не более чем игра этих сил.
Сегодня на уровне возможностей наших представлений об этих силах, связанных с игрой алгоритмов, сознанием, искусственным интеллектом и тому подобное, возможно, мы все — части этой игры. И в этом смысле, возможно, я тоже, как и все люди в тотальной степени. Тогда уже эту тотальность здесь можно различить, являясь частью этой игры. Конечно, сегодняшнему человеку, который находится в отношениях не просто с другими людьми, но и с интернетом, сетью как таковой, наверняка это приходит в голову. Мне кажется, это не может не прийти в голову. Если человеку что-то приходит в голову, возможно, он так устроен, что ему это может и присниться. Мне, думаю, никогда это не снилось, такого рода игра — что косвенно может работать как на опровержение, так и на подтверждение этой теории. Приблизительно одинаково можно сказать: видите, это то, что никому никогда не может присниться, потому что само по себе это как сон, но бывает, что и сон приснился. А с другой стороны, это вот так.
Являюсь ли я сам [нейросетью]? Знаете, я бы ответил так: если это нейросеть — естественно, будущего. Не то, что сейчас удалось вырастить за эти несколько десятилетий агентам этого дела не за страх и не за совесть, а как-то более фанатично преданным этой идее и постоянно ее развивающим — а то, чем она в своих пределах может являться. В общем, ничем, как я думаю, это не отличается от того, чем являлась Вселенная до появления в ней нейросети. То есть мне по этому поводу особенно и не надо париться, потому что я не вижу [отличия] — будучи человеком, творением, сосудом — можно по-разному, как это свойственно духовным практикам человечества, да и нашей жизни.
Но если это так, хорошо, просто это опыт другого наименования все того же. И как предложение для игры я могу это принять, это очень даже веселое занятие, а как предложение для веры… а мне и не надо это принимать, потому что я не двигаюсь путем просто веры. Это часть какого-то, наверное, моего существования, но только часть, то есть несуществующая. Потому что чтобы обнаружить часть органического типа, надо все-таки различить его связи с целым. Пока не различено целое, говорить о части невозможно. Мы можем говорить только об алгоритме, как говорил Флоренский — мы это все знаем, я часто к этому обращаюсь. Флоренский так точно определил различия механизма от организма. В механизме часть связана с последующей и предыдущей, а в организме эта часть связана с целым, каждая часть. Ну а если часть связана, тогда ты опять-таки имеешь дело с целым, а вера — это часть. Значит, важно различить то целое, частью чего является твоя вера. И если это целое даже не сформулировано, но существует и делает твою веру, твоя вера связана с этим целым и осуществляет сама себя как часть. Но целое это может быть названо нами как Творец, возможно, и оно неопределимо, мы хорошо это понимаем. Вот я это прекрасно понимаю, этот апофатический тип отношений с Творцом.
Возможно ли его включить в игру? В моем художественном опыте это есть, я включаю Творца в игру. Но когда я включаю в игру, он включается по-другому, чем вот этот величайший, имя которому нейросеть или искусственный интеллект. Но это имя очень маленького кого-то или чего-то, а тот, о котором имеет смысл говорить, он находится где-то в совершенно других измерениях. Но если мозг — это шестнадцать измерений, то тот должен находиться на порядки в больших. То есть он приближается к той неопределимости и неприкасательности, которую нам обнаруживает, например, брахманизм с его стадиями исчезновения какой-либо возможности для контакта с иерархией. И отчетливо это произносит Каббала, например, или даосы.
По-своему все духовные интуиции или структуры, или учения, или науки, как их ни называй — они об этом говорят. Это до неразличимости неопределимое. Та неразличимость, которая располагается в иерархиях неопределимого, в силу чего мне как художнику, человеку, сновидцу и так далее, это светит. Вот в таком режиме, о котором я сейчас говорю, и оттуда, из радостей источника, неопределимого для меня. И мне даже не надо смиряться с этим, потому что это не тот порядок взаимодействий. А тот порядок взаимодействий, он спрятан, как это ни странно, в традиции, какой бы она ни была, в том числе и исламской традиции, суфийской, например, и так далее. С этим в отношениях — да, лично я нахожусь, и она меня питает и помогает мне существовать, ставя передо мной вопрос свободы воли как образа и подобия Божьего. Потому что те мудрецы, которые вызвали своим размышлением и образом речи и жизни у меня неприкасаемое к ним и безапелляционное доверие, они так формулируют эту позицию: образ и подобие Божие в нас — это свобода, воли или выбора. И да, это мне кажется истинным. Но тогда мои акты художественные делают из этого вывод: оказывается, я свободен для развития. Если так светит в меня какая-то определенность, я настораживаюсь, потому что, когда мы говорим об ИИ, мы получаем какую-то определенность в виде подобия, но это не та определенность, которая связана с невозможностью вообще прикоснуться к тому, что выходит за рамки человека.
И тогда у меня возникает подозрение, что все-таки это разное. А если это разное, что париться, понимаете? Да, тогда это тоже часть, но не целое. Я не образ и подобие нейросети. Вот так бы я мог откликнуться на ваш интересный вопрос. Спасибо за гвоздику. Дайте, пожалуйста, микрофон человеку.
Из зала: Прошу прощения. Второй вопрос по ходу вашего ответа: а что больше — вера или игра. Или радость?
Б. Ю.: Трудно в категорию сравнения отправить клочок туалетной бумаги, рык льва и философский трактат Канта. Это можно было бы сделать, но здесь берет свое начало патафизика именно. Там, где клочок туалетной бумаги, там слово больше живет. Из детства моего: «Боренька, ты сходил по большому»? — спрашивала меня моя бабушка. Там, где «что», живет Кантовская какая-нибудь медитация. Там, где «или», возможно, живет такой вопрос: кто сильнее тигр или лев? И вот уже рык льва приближается к моему сознанию. Это патафизический вопрос, и ответ на него следует давать в духе патафизики, что я сейчас и продемонстрировал.
Из зала: Моя жизнь не будет прежней!
Б. Ю.: А она до этого была прежней? Вы представляете, если ваша жизнь все время прежняя? Дай бог, чтобы она никогда не была прежней, потому что это образ буксовки. Друзья мои, может быть, у вас есть вопросы к нашей компании, а не только ко мне? Может быть, у вас есть высказывания?
Полина Юдина: А можно я задам вопрос? А то я все ношу микрофон, ношу…
Б. Ю.: Почему ж нельзя, можно! Все-таки вопросы выигрывают у пламенных монологов, обратите внимание.
П. Ю.: Я задам вопрос команде. Всего было больше ста человек в проекте задействовано, и в один вечер ты мог быть поросенком, на следующий день ты — Клеопатра. Ну, это прямо пример. При этом практически каждый день репетировался, ставился день в день: он ставится, съемка, показ, собирается полностью… нет?
Б. Ю.: Подожди, я должен тебя поправить. Ставится?
П. Ю.: Собирается.
Б. Ю.: Нет, это собирается намного заранее.
П. Ю.: Да, но именно вот в том виде, в котором...
Б. Ю.: Да, именно в том виде, это уже собрано заранее. Тут важно, чтобы ты правильно поняла. Вот смотри. Есть пять месяцев работы по подготовке и осуществлению постановки. Условно говоря, 5 сентября поставлена, сделана в свете, с повторами и зафиксирована внутри самой себя композиция номер 6, условно. И она потом прогоняется и полностью утверждается, она есть. Потом проходит время, наступает день съемки, и это уже осуществленная и проверенная в повторе как сделанная, композиция достается из времени, к ней приставляются камеры, и она проходит еще раз. И в этот момент ничего в ней не меняется! Вот что я хочу подчеркнуть. Она может пройти с накладками, тогда остановка, и она опять проходит без накладок. Ты так понимала то, что я сказал?
П. Ю.: Я имею в виду другое.
Б. Ю.: Ты понимала так?
П. Ю.: Да, конечно, я же полтора месяца с ними прожила.
Б. Ю.: Нет-нет, пожалуйста, Полина, будь внимательна. Ты не прожила полтора месяца с тем, о чем я говорю. Как если ты прожила бы эти пять месяцев полтора или два года назад, когда это делалось. Поэтому у тебя нет опыта ни созерцания, ни участия в этом процессе. И вот это очень важно понять.
Вы понимаете, о чем я говорю? Это совершенно другой процесс. Кто-нибудь вообще понимает это, кроме тех, кто в этом участвовал? Вы поймите, что это другой процесс — постановка. То есть готовятся костюмы, идет разговор с мэппинг-художником, готовится музыка, и все-все-все. Начинается постановка этой композиции. Внутри этой постановки происходит еще один процесс, который не может происходить ни до, ни после. Она осуществляет себя, рисует. Она нарисована.
Все помнят маршрут своего участия. Это фиксируется как программа, как партитура только после постановки. В свете, в звуке, в сценографии, в участии монтировщиков, в мэппинге, который может внутри осуществляющейся постановки трижды редактироваться и развиваться. В нем происходит диалог между художником, берущим на себя участие в исполнении, артистами, режиссерами. И вот она зафиксирована, она повторяется. И говорится: Да, это готово. Откладывается. На следующий день ставится другая композиция. И так 47 раз. Это было сделано, например, 5 сентября, плюс 46 еще работ.
Это процесс, который шел давно, больше года назад. И вот после этого сделанное 5 сентября, эта композиция, она ставится утром и снимается. Чудо заключается в том, что все всё в общем досконально помнят, они это играют, а если происходит накладка, это просто повторяется. Работают все составляющие элементы этой композиции, звук, вовремя включаемый, и так далее. Вот это уже чудо. Это уже результат очень хорошо отлаженной работы всего коллектива. Понятно, да? После этого вечером она уже играется на публику, а съемка, прошедшая огромную работу обработки, в правилах, принятых связанной с этим индустрией, выдается в трансляцию на миллионы людей.
Вот о чем я рассказывал. Это играется один раз, потом проходит перерыв. Опять это готовится, потому что там есть элементы тренинга, восстановления голоса, вспоминание хореографии, вспоминание текста и так далее. Это подготовительный период перед каждой сессией. После опять играется один раз каждая композиция, обсуждается уже с разных ракурсов, может выдержать какую-то редакцию, связанную с вводом человека, и тогда это дополнительная репетиция. Но сама по себе композиция не меняется.
Утром я не работал во второй сессии, потому что на мне ответственность редакции, понимаете? Она не может измениться, если это я не меняю, это моя ответственность. И никто не будет таким сумасшедшим, что внесет эти изменения, потому что тогда все разладится. Это же четкий ансамбль по распределенным функциям.
А вот в третьей сессии у меня уже были силы. Я очень серьезно болел вторую сессию, о чем я, слава тебе Господи, успел, еще не болея, предупредить ребят. Помните этот момент? И в третьей сессии я уже утром вел редакцию. Это была просто редакция композиции не только по причинам ввода, а по причинам этапа. Я уже прекрасно понимал, что какого типа я редакцию ни введу, она мгновенно будет зафиксирована ансамблем и спокойно будет сыграна. Так и происходило, ясно? И так, если бы у нас были возможности дальше играть, а я их не могу предсказывать, то, конечно, мы бы по утрам, или даже между этими сессиями, могли бы далеко двинуться. Но это вопрос возможностей, которым выделяет время судьба каждого человека и таким образом еще и судьба всего проекта. А теперь задавай свой вопрос.
П. Ю.: Все же я имела в виду, что у нас не повторяется, у нас нет там точной сценографии, которая закреплена и на протяжении… Сейчас, я договорю, ну пожалуйста, я договорю? Я имею в виду, что у нас нет этого физически. Нам же каждый раз нужно восстанавливать то, что уже было.
Б. Ю.: Так это любой театр…
П. Ю.: Но не за день!
Б. Ю.: Театр, в котором люди публично какают и больше ничего не делают. Перформанс такой там какой-нибудь, где какают по-разному, в отличие от нас, которые играют так же, но они какают в заранее определенные унитазы, под заранее определенную музыку. И характер их пыженья тоже заранее определен. Их подготовка к пыженью в виде еды для какания тоже определена. Прости.
П. Ю.: И все же, же я имею в виду, что монтаж… Я уже боюсь что-то говорить, но я скажу, я все равно скажу, конечно, что монтаж происходит день в день. То есть нет этого, не зафиксировали. Итальянский дворик монтировался в день показа, именно сама сценография.
Б. Ю.: Но для того, чтобы он монтировался в день показа… Подожди, будь внимательна. Я зачем-то трачу твою и свою энергию концентрации на то, чтобы это объяснить. Это очень важно. Она [сценография] заранее, естественно, уже во время постановки, то есть полтора года назад, была определена как алгоритм, выяснена последовательность монтажа, что позволяло заранее рассчитать весь этот проект, рассчитать его в планировке. У меня есть планировочный план 47 композиций, это вот такой том был уже записан и изготовлен как памятка для всех, записан во всех механизмах до начала процесса третьей сессии. Да, это все очень жестко сделанная вещь. Но монты сменились, например, они там бунтовали весной. Это профсоюзные тенденции левых амбиций времени. Монты заменяются, руководителя нет, от этого страдает время установки. Приходится все перепроверять, сличать с фотографиями. Вот установка, вот мы можем делать прогон и редакцию, как это намечено в этой сессии. Продолжай задавать свой вопрос.
П. Ю.: Я промотаю эту часть и…
Б. Ю.: Говори громче, Полин.
П. Ю.: Я перехожу сразу. Вот то, с чего я начинала. Очень многое количество ролей помещалось в одного человека. Это правда? Да. Процесс вот этого внутреннего переключения, как он работает? Мне сложно, я не понимаю, но я никакого отношения никогда не имела к театру именно изнутри как актриса, как часть постановочной команды. Я всегда была где-то администрирующим звеном. Такой вопрос.
Б. Ю.: Два с половиной года. Если бы я вот все время тебе в таком режиме говорил, а ты бы его выдержала, то ты тоже многое могла бы запомнить. А потом еще пять месяцев постановки. Это же русло прочерчивается долго. Это я отвечаю.
П. Ю.: Да, а я хочу, чтобы сказали ребята, потому что все равно у них другая оптика.
Б. Ю.: Отвечайте, как хотите, ребят, я вас прерывать не буду.
Ирина Чижова: Я в самом начале проекта очень упорно записывала в тетрадку композиции. Помню, что я писала, как нужно ставить посуду, в какой момент я выхожу, что я делаю. Я думала, что я когда-то к этим записям буду обращаться. Но…
Б. Ю.: Ты уже говоришь о пятимесячной работе. После почти трех лет репетиций.
И. Ч.: Да, да.
Б. Ю.: Но ты же репетировала кучу разных ролей.
И. Ч.: Да, но не в такой же композиции это было.
Б. Ю.: Много разных ролей, в ракурсе формулировки Полины. Поэтому у тебя не было проблемы разместить в себе все эти роли. У тебя была проблема их разместить в постановке. Понимаешь, да? Это же разное.
П. Ю.: Ира, говори, как чувствуешь, о чем хочешь.
Б. Ю.: Чувства не при чем! Неважно, что чувствует монтер или специалист по машине. Это вопросы к машине. Понимаете, вот он напился вчера, но он должен выполнять технологию. Вопрос к технологии, а не к чувствам. Чувства здесь вообще не при чем.
И. Ч.: Но да, здесь я могу сказать о своем опыте относительно технологий. Я это ценю очень, для меня было, честно говоря, удивительно, как это могло… Я понимаю, что в технологии это было заложено и спланировано, все сделано. Но для меня удивительно как для человека, который участвовал в этом и, наверное, не всегда каждый шаг осознавал, что это задел идет. То есть я в нем как-то тотально расплывалась и участвовала. И для меня было удивительно, например, когда мы своим ансамблем осуществили такую сложную постановку, с огромным количеством людей, с массовыми сценами, когда просто очень четко нужно было всем выполнять какие-то определенные постановочные задачи.
И это даже не связано, например, с актерством, где важен коллектив, который, конечно же, у нас наработан. Но эта четкость, она очень важна в составе людей, которые определенным образом воспитывались, они собирались как коллектив и так далее. И для меня было удивительно, как мы три раза смогли это повторить, как мы второй раз там играли. Во-первых, как мы это делали после такого громадного перерыва, когда, конечно же, у каждого есть своя какая-то жизнь, свои занятости и каждый расплескивает эту энергию состава на… ну, на что-то другое. И как потом удавалось снова всем собираться, снова слышать друг друга и снова возвращаться к тому, что мы наметили в самом начале, очень задолго и очень давно срепетировали, как эти тексты продолжали жить, как они продолжали на моих глазах множиться в своих смыслах, как я продолжала открывать эту композицию. Например, для меня лично многие композиции, в которых я и участвовала, были до конца не осознаны. То есть я с каждым разом осознавала их и была в шоке от всех проложенных линий, которые были во мне еще, оказывается, задолго до. И, осознавая это в момент уже последнего спектакля, ты поражаешься этому методу, этому подходу, этому пути, как это вообще возможно. Вот, наверное, я могу от себя откликнуться вот так.
Б. Ю.: Это свидетельство — то, что ты сказала, это интересно. Я это прекрасно понимал. И в связи с этим я хочу напомнить собравшимся здесь просветленным моим товарищам, моим ученикам! Да правильно, вы никакого отношения к моим словам не имеете, но я вектор послал вам, и вы оглянулись. Вот как интересно. Чудеса коммуникативных векторов — часть техники, в том числе артистической, ораторской, какой угодно. Это интересные вопросы, не имеющие никакого отношения к нашему разговору.
Ведь что такое в новопроцессуальном — а мы говорим об этом — методе…. Ну, «метод»… я не люблю эти слова, это не про меня. В новопроцессуальном проектировании, вот так скажу. Что такое постановка? Я это изучал в трех огромных последних своих проектах: в «Золотом осле», в «Орфических играх» и в предельном смысле, и в другом уже совершенно качестве и в чистоте накопленных размышлений, — в МИР РИМе. В предельном смысле осуществить это удалось именно в МИР РИМе.
Постановка — это создание того самого текста, который ты как бы ставишь. Будьте готовы к противоречию, без которого нам не обойтись. К искусу противоречия, чтобы мы ни имели в виду под этим понятием. Противоречие — это речь, которая одновременно содержит сопротивление самой себе в расчете на дополнительный смысл, который рождается в актах этого взаимодействия внутри этой речи. Ее сопротивление самой себе и при осуществлении самой себя. В этом смысле проект на этапе постановки обретает себя как именно текст во всей полноте. Потому что вообще-то театр является речью, а не текстом. Он, например, не может быть подвержен семиотическому типу анализа, что стало ясно уже к середине восьмидесятых годов. Ну, например, мне это стало ясно, но не только мне, а в принципе, людям, пытающимся работать с семиотикой в отношениях с театром. И актер — участник осуществления и жизни этого текста, тот, кто является его частью и в этом смысле его целым, без которого этот текст и не существует. Или картина — тоже текст, или фильм — это тоже текст. Текст, а не речь. Как жизнь, например. Она же не текст, она может быть узором, но что такое узоры — это отдельный разговор, я сейчас глубже не буду идти. Вот этот текст дальше выступает с требованием к создателям проекта осознать его, научиться с ним обращаться, его играть, быть в него целиком включенным и так далее. А спектакль уже есть. Это то, о чем говорит Ира, и процесс этот долго происходит. И я приступил к этапам осознания этого текста в более тотальном и крупном объеме только в третьей сессии, когда мы третий раз полностью его играли.
Я начал этот процесс… Но я его только начал, я его даже не вывел на те необходимые свойства, благодаря которым он мог бы дальше идти, еще долго развиваясь и осуществляя себя. А при этом проект, возможно, уже не сможет повториться во всей целостности. Вот как интересно на территории новопроцессуального искусства существует знание и разбор текста, и игра его. И это напрямую не связано. Это просто дает возможность при разборе этого текста, то есть всей кантилены мизансцен, других составляющих его, включая внутренние основания игры и структурацию невидимой игры незримого процесса... Это здесь, именно в связи с этим проектом, а не с каким-либо другим новопроцессуальным проектом. Это особенность этого проекта.
Я, например, всегда говорил, ребятам: «Содержите это как текст во всей строгости и точности обращения с каждым моментом игры и мизансцены». И ребята это делали безупречно. Но как только я бы отправился — а я начал этот процесс — в осознание именно уже этого как текста, я бы в эту секунду его сформировал как текст, понимаете? Я позволил бы себе особого рода редукцию по отношению к не требующему выговаривания универсуму тех потенциалов, которые актуализированы в этой игре. То есть я пошел бы на довольно рискованную, требующую изумительной точности и абсолютно нового типа этапа проекта работу, которая потребовала очень большого времени, могла бы по пути установить совершенно другой образ этой спектакулярности во всех ее деталях. И это было бы подлинным развитием этого проекта и подлинным краеугольным этапом.
Это не то, о чем говорит сейчас Ира. Когда она, уже прекрасно участвуя — во всем разнообразии своего участия — в проекте, начинает осознавать, чем он является. Это как сороконожка, которая вдруг услышала, как работают ее ноги. Но при этом они еще лучше работали, когда она этого не слышала, скажу вам честно, потому что расчет этапа был именно на это. И не надо ничего слышать. А вот кино даст возможность. Собственно, Ира — я помню этот момент — увидев кино, стала понимать, как мы работаем над редакцией. Вдруг стала понимать многие вещи мгновенно, потому что кино — это текст. И еще неизвестно — то, что она поняла, полезно ли было для игры. Поэтому я сказал: не надо пока смотреть, воздержимся. Потому что это бы сразу осложнило отношения с собой и выделило массу экзистенциальных проблем.
Но то, о чем я говорю, это другое, это развитие текста в реципиенте и участнике одновременно. Потому что одна из принципиальных позиций новой процессуальности: я автор мифа, в котором я же и участвую, его создавая. Это особого рода позиция, и чтобы догнать эту позицию и включить сюда текст, требуется очень большое время. И это время может настать только тогда, когда сама по себе жизнь по созданию и содержанию спектакля, возможно, окончилась навсегда. А желание работать внутри этого проекта и возможность продолжается. Это неизвестно.
Что такое образ становления? Мы имеем дело с эволюцией… Эволюция не лучшее слово. Есть такое понятие evolution project, это вообще никакого отношения к новопроцессуальному искусству не имеет, это что-то ему противоположное. Но я сейчас не буду туда уходить, потому что я буду работать с социокультурными контекстами, это мне неинтересно. Я говорю о новой процессуальности. Тогда это развертывание проектного потенциала, которое можно назвать становлением проекта и тех свойств, которые спрятаны в концепте. Но концепт должен быть таким и настолько богатым (это искусство его создания, в отличие от философского концепта это концепт художнический, проектный), чтобы он имел этот потенциал саморазвертывания, саморазвития. А правила обращения с этим — это уже следующий момент. Они есть и требуют виртуозного обращения.
Так вот, в этом саморазвитии есть свои этапы. Вот он развернулся и достиг очень убедительного качества уже существующей спектакулярности в 47 спектаклях и композициях, объединенных цельным движением в 21 вечер. Снят родившийся уже сериал, который нам осталось доработать. А при этом в его становлении накопились и готовы развернуться следующие потенциальности, требующие создания новых правил его существования. И вот тот, кто их улавливает — это и есть функция гуманоида, то есть того, кого можно назвать мастером, отвечающим за развитие этого проекта. Вот эта функция на сегодня может быть только у меня. К сожалению или к счастью, а мне в принципе похуй. Это не имеет отношения к этим чувствам, просто вот эта функция.
Может ли человек обучиться этой функции, то есть стать мастером новопроцессуального проектирования? Может, только пройдя большой путь, став, по сути, мастером всех остальных типов существования процессуального искусства или определенного набора. Не всех вообще, а [такого], который позволит ему выйти. Но на этом этапе может ли получить это мастерство человек, участвующий в этом проекте? Конечно. Он и получает это мастерство. И этот проект позволяет его серьезно получить — это мастерство осуществления новопроцессуального проектирования. Но в этом смысле требуется еще работа дополнительная, время. А по пути развертывания такого рода проекта он, конечно, становится, в общем молодым мастером во всем остальном. Он может поставить спектакль, он может собрать сцену, он может осуществить маркетинговое дело, связанное с этим, и даже бизнес может построить на этих основаниях. Он может сделать много чего. А актер, который в этом участвовал, может играть в любом типе режиссуры. Это все последствия этой технологии — в ситуативном театре, в игровом, концептуальном, в новомистериальном типе игры, о котором мы сейчас с вами вдруг — или не вдруг, а правильно — говорим, потому что это наиболее существенная часть разговора. Это самое трудное для артикуляции.
Я начал разговор про этот текст — живой, рождающийся, идущий у нас… После спектакля мы говорили об этом, а утром я делал редакцию. Как вы помните, так была построена эта сессия. И я старался 21 день утром делать это, вечером это, утром это, вечером это. Ну, получилось только начало разговора, потому что тут требуется большое время. Посмотрим, что будет дальше. Который час сейчас?
Из зала: 22:20.
Б. Ю.: Ну, если у вас есть вопросы или «пламенные монологи»… Я это в кавычки беру, это может быть пламенный монолог в таком виде: «Я что-то вот думал, даже не знаю, стоит ли говорить, там, мне кажется…» — это будет настоящий пламенный монолог. Но перед тем, как мы окажемся среди этих гейзеров человеческой речи, мы сделаем опять-таки перерыв. Я вас предупреждал, что я курильщик. Опять чуть-чуть курну, зарядимся дымовым счастьем и опять вернемся.
Ребята, у нас определился лимит, естественный лимит, связанный просто с производственными делами. А разговор, каким бы он ни был, сейчас еще минут 30. Вот что могу сказать: это нормально абсолютно, сейчас где-то пол-одиннадцатого. Просто продолжим то, чем мы занимались, чтобы не тянуть из людей образ их участия. Как хотите, так и ведите себя. Хотите — что-нибудь скажите, хотите — что-нибудь спросите, хотите — просто слушайте.
Из зала: У меня, наверное, вопрос-рассуждение. Я столкнулась с тем, что тема, которая меня сейчас волнует, или состояние, ощущение — это ощущение тревоги. И, как художница, я хожу вокруг да около этого образа или состояния. Такое вот кручение, как вы говорили, то, что мы находимся сейчас в этом состоянии, когда придумываем прошлое или восстанавливаем его и пытаемся спрогнозировать будущее, но его нет… И мы сейчас находимся, в каком-то мифологическом…Такой каше, наверное. Да, мифологическая каша. Такое что-то вязкое, во что ты погружаешься и пытаешься как-то себя вытащить. И вот нужно же все-таки позитивно, а тревога, она негативный опыт имеет за собой. И телесным образом она осаждается у тебя в теле. Ты вроде бы как в динамике находишься, но какая она… Вот как вы можете продолжить мою мысль касаемо тревоги? Как художник, наверное, который исследует это состояние и пытается, хочет воплотить это в своих работах... Я имею в виду, что мы сейчас находимся в XXI веке, и если мы говорим о современном искусстве, то у нас накладывается все равно некий отпечаток каких-то определенных нужностей. То есть нужно все равно там как-то врезать, войти в какое-то определенное время, которое ты хочешь отразить. Вот я понимаю, что… Вы не говорили, что нужно в своей речи находить какую-то цель. Вот единственная цель моя, наверное, подискутировать на тему тревожности, тревоги и мифологических героев, персонажей, архетипов — как угодно. Можно, наверное, говорить вот так.
Я думаю, что моя речь направлена, конечно же, в первую очередь к вам, но также и к участникам всего этого события, в котором мы сейчас находимся. Может быть, кто-то из зала может мне тоже ответить на этот вопрос.
Из зала: Мне кажется, та тревога, о которой ты говоришь, она связана с местом, где сменяются эпохи. То есть время должно как бы поменяться, что-то приходит к концу и должно начаться что-то новое. И вот мы сейчас находимся где-то в этой точке. Я думаю, от этого и ощущается такая дикая турбулентность и тревожность от того, что происходит. Просто я это понимаю, и у меня у самой есть вопрос: как быть с этим внутри себя, потому что старое, вроде как оно уже проходит, оно уходит и чувствуется, что будет что-то другое, а что будет — непонятно. И вот это ты называешь, как я понимаю, мифологической кашей. Ну, это единственное, как я могу отозваться.
Из зала: Да, спасибо. Вот мне кажется, просто, что мы сейчас постепенно рождаем большое количество персонажей, образов и постоянно перемешиваемся с мусором, который мы визуально встречаем — я имею в виду какие-то рекламные таблички и прочее. Есть термин «семиокапитализм». Вот это как раз таки помогает нам назвать неизвестное, оно уже является тем, с чем можно работать. А тревожность, как мне кажется, вот эта вот вязкость, которая…
Б. Ю.: Сколько вам лет?
Из зала: Двадцать девять.
Б. Ю.: Кто-то хочет вступить в диалог? Я поразмышляю на эту тему. Мне кажется, что основание тревоги человека в первую очередь располагаются не в его творчестве, а в его жизни. Это первое. Чаще всего тревога связана — и та тревога, о которой вы тоже говорите — с тем, как обустроен человек в своей жизни. Эта тревога является частью жизни.
Когда я был молодым человеком, я сам себя заслал в город Воронеж. Это было какое-то очень далекое время. Я очень пожилой человек по официальным меркам. А по другим меркам я просто древний человек, поэтому не будем об этом говорить. В это время мне было 18–20 лет. Похоже, что я сделал очень необдуманный — так обошлась со мной судьба — и очень опасный шаг, по своей воле заслав себя из одной среды в другую, вот в этот Воронеж. И хотя я там жил очень интенсивно, учился на актерском факультете... Это было связано с моим желанием учиться на актера, хотя я бы хотел быть режиссером. Но я почему-то решил, что если я не буду знать, что такое актер, я не стану режиссером. И так как меня из-за моей еврейской и такой восточно-экзотической внешности не очень принимали, а я был совершенно другой человек, то я отправился в Воронеж. Меня туда позвала Ольга Ивановна Старостина, которая была выдающимся педагогом.
Я приехал в Воронеж, и меня все время, пока я был в Воронеже, сопровождало то, что в юности очень известно — гнет. Я ходил, а в моей душе все время был гнет. Это даже больше, чем тревога. Но это был гнет, идущий изнутри моей судьбы. Не снаружи, а изнутри. Был какой-то пиздец этот гнет, он все время меня сопровождал, угнетало меня что-то, приучая меня жить с этим гнетом. При этом я испытывал массу всяких желаний, чувств, приключений, писал много стихов, учился, дружил, принимал на себя во всей разверстке русскую провинцию, о которой вообще ничего не знал и так далее. Я думал, что я еду на полгода. А здесь, в Москве, я общался совершенно в других компаниях. Там были внуки членов политбюро, дети всяких знаменитых актеров. Играли в монопольку, то есть обучались будущему бизнесу, трахались бесконечно, занимались хрен знает чем. Сейшены всякие, даже не представляете, это же был брежневский декаданс. Народ отдавался декадансу по полной, просто по полной.
И я из всего этого ушел, слава тебе, Господи, лет в 17, а с 15 я в этом вращался. И вот этот гнет. А когда я тут вращался, никакого гнета не было. Там он появился и был. Вы знаете, когда он пропал? Когда я попал в армию. Потому что я оказался не на полгода в Воронеже, а четыре года там просидел с этим гнетом. Потом меня судьба сослала в Брянск. А Брянск по отношению к Воронежу это как Воронеж по отношению к Москве, вообще хрен знает что. Я думал: где же тут прятались знаменитые партизаны? — там два кустика и лед, лед, просто лед. Там иногда добраться до Драматического театра невозможно, ты скользишь по льду.
Гнет стал пропадать. Потом я подрался прыгалками с главным режиссером, бедным парнем. Убрали бронь и меня сослали в армию, я попал в космические войска. В армии гнета не было вообще. Я там писал роман «Моментальные записки сентиментального солдатика» и по-своему был счастлив. За это время много катаклизмов пережила моя душа. Это все так или иначе там отражено. Это был какой-то 80-й год, допустим, или там 79-й, но, по сути, это [роман] был док. К нам док-культура пришла хрен знает когда, а я начал этим заниматься вот тогда. Но это тоже не по лекалам англосаксов и связанного с этим Роял Корт. Это были другие совершенно, из себя идущие свойства.
Из зала: То есть вы переродились, получается?
Б. Ю.: Не знаю. Гнет ушел.
Из зала: Затмение какое-то.
Б. Ю.: Не знаю, вот делюсь с вами. Но вы же говорите о другом — не о гнете, а о тревоге, и у вас другой возраст.
Из зала: Прошу прощения, что перебила.
Б. Ю.: Этот гнет, видимо, недаром был выделен мне судьбой, потому что после этого я уже не испытывал никаких тревог никогда. Это из моего личного опыта. Я испытывал давление обстоятельств. Вот мне надо добыть деньги — это одна из самых тяжелых обязанностей в зрелую стадию жизни. Потому что, если их не добуду, разрушится Электротеатр. В какой-то момент я понял, что нельзя себя обуславливать больше, чем ты сам необходимостью совершения чего-то вообще. В частности, проекта или какого-то дела. Оно не должно становиться больше тебя, потому что тогда оно тебя берет и закабаляет — идея фикс или что-то еще, и тогда она насылает на тебя то, что можно назвать не гнетом, а тревогой. Но, имея опыт ношения в себе этого, блядь, гнета, по сравнению с которым никакая тревога не является ничем особенным, я быстро с этой тревогой стал расправляться. То есть, имея дистанцию к собственной идее фикс, какой бы она ни была.
Это второй этап отношений с такого рода явлениями сознания. Никуда не денешься от того, жизнь совершает с тобой инициацию, и надо понимать, что тревога является необходимой частью. Или гнет. Возможно, для мужчины — гнет, для девушки — тревога. Но это очень похоже на инициацию. А можно ли личный, экзистенциальный опыт инициации возвести в степень искусства? Ну, можно, но на недолгое время. Много оттуда не достанешь и не удастся достать. Потому что, центрируясь на себе, объективируя себя и пытаясь идентифицировать процессы, идущие в себе, с процессами, идущими в социальном космосе или еще каком-либо, вы можете запутаться.
Процессы, идущие в социальном космосе — это результат множества манипуляций мозга, интеллектуального и практического дела. Чаще всего они сопряжены с историей, но это надо вывести понятие истории, с интересами и борьбой, формирующими социальный космос. Левые правила, новая этика, старая и со всем тем, что там еще произрастает. И конечно, сливаться с этим человеку в тайне экзистенциальной жизни просто ни в коем случае нельзя. Я бы очень не советовал, потому что это все равно что наши незащищенные люди по всему миру — молодые люди, они особенно не защищены — они как бы дышат этим ядом и дальше не знают, как от него избавиться за счет разного рода идентификаций.
Особенно это было свойственно второй половине девяностых и нулевым годам. Огромное количество людей позволило проникнуть в себя разного рода левым лексикам и заразиться ими по полной. Но они не исследовали генезис этого вопроса, а надо было бы исследовать, и вы увидите, насколько все это просто зараза. Сейчас это единовременно проявляется в тотальном антисемитизме, например, который есть в этой среде, в абсолютной неадекватности реакций университетских левых, в том, как вдруг все это провоняло буквально в одну секунду. И в их реакциях на любой конфликт. Они вообще не знают, как реагировать, и вдруг оказывается, что это огромное количество чумных бараков, а не университетов и ничего другого.
Все это соревнование в терминах — это на самом деле тщеславные страсти, рожденные постциническим разумом. Аналитику этого явления, как и вообще левого явления, например, дает Слотердайк в своей книге «Критика цинического разума». Внимательно почитайте, он прекрасно с этим расправляется. Следуя, например, его интуициям и блестящему исследованию, которое он провел, можно включить в себе внутреннего Диогена, публично попукать, поанонировать, потошнить, поебаться, дать какой-то вдохновенной грубости — то есть стать авангардным художником. Тревога мгновенно рассеется благодаря здоровым проявлениям сознания. Не за счет других людей, но и не за счет себя, понимаете? То есть надо научиться — а это медленный гомеопатический процесс — быть колобком, то есть ускользать из-под захватов, потому что это не тема для творчества. Тревога — это образ реакции вашего сознания чудесного, наверняка чудесного, раз оно тревожится, то оно чудесное, на множественность этих захватов. А сам факт того, что вы это артикулируете, означает, что ваша индивидуальная инициация, по сути, завершается. Вот что я могу вам сказать.
И это не такая дихотомия: позитивное — негативное. Это же образ дихотомии, который в общем является дутым, это дутость. А реально нет ничего плохого в том, что человек тревожится. Так же, как в том, что он болеет, или любит или кому-то пытается помогать, потому что это вообще очень тяжело, очень. А еще этот атеизм, который тоже удивителен. Я понимаю атеиста — это честный человек, это в принципе здоровое восприятие, судьба которого одна и та же. Он примет Творца, он никуда не денется. Но я плохо понимаю философов, которые это начинают возводить в степень умозрений. То есть убегают от собственного атеизма в сторону собственных интеллектуальных страстей. Это подарок, на самом деле, такой тип сознания здоровый. Ну, останьтесь вы один на один с этим, и обязательно откроется что-то. Но то, что откроется, будет очень существенно. А если вы хотите воспользоваться своим атеизмом, тогда вы придурок просто и как бы участник ярмарки тщеславия. А когда на этом начинают расти реакции и теории всякого рода, в основном левого характера... Протуберанцы чумы, прокаженных. Вон они растанцевались — какое к ним может быть отношение? Любовь, почтение, уважение, различение в них детей, которые в основном этим занимаются, различение в самом себе ребенка, выход на контакт — счастливое времяпрепровождение, как и со всем противоположным, со всем другим. Просто это этика другая, но не война. Война превратит их в гадин из мидраша о Рабби Йосе.
Рассказываю мой любимый мидраш. Ну, один из 85 моих любимых мидрашей. Значит, в одной деревне был праведник. Более того, он был абсолютный праведник. Звали его Рабби Йося. Он был не срединный, не средний, а абсолютный праздник, что недостижимо. Он жил, молился, сидел у реки, питался рожковым деревом. Рожковое дерево — это примерно то, чем питаются свиньи. И он был счастлив. А в этой деревне завелся аспид, гадина, гадюка, змеюка и стала всех кусать. Ну они, конечно, непростые ребята. Они ее мотыгами, а она только разрастается и становится еще изощреннее, эта гадюка. И они уже не знают, что с ней делать. Побежали к Рабби Йосе: вот так и так вот, кусает всех, вообще жить не дает, и, по-моему, скоро родит, тогда нам кранты? По-моему, она уже беременная. Рабби говорит: Ну, хорошо. Он помолился, надел тфилин как положено. Как был, босиком пошел в эту деревню. «Так, ну и откуда она вылезает? — Вот из этой дырки, всех кусает гадина, гадюка, аспид, змеюка». Что сделал Рабби Йося? Он взял и заткнул эту дырку пяткой. И дальше мидраш гласит: «Гадюка ужалила Рабби Йосю в пятку и умерла». Он вернулся и продолжил молиться. Подумайте об этом. Так же и с тревогой, и со многим другим.
Из зала: Благодарю.
Б. Ю.: А я — вас. Благодарю, прошло полчаса. Спасибо, друзья, за общение. Приходите к нам в Электротеатр, смотрите наши спектакли, участвуйте в лабораториях, которые будут только разрастаться здесь и искать путь своего осуществлении. Всего доброго.