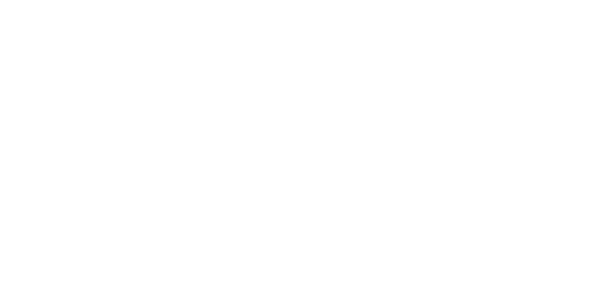Мы решили, что недавний отзыв Татьяны Щербины о "Стойком принципе" — подходящий повод опубликовать текст Бориса Юхананова 1989 года. Театральный критик Ольга Хрусталева подготовила для журнала "Родник" расшифровку "Полночного монолога" о поэзии Татьяны Щербины, ее сборнике "Ноль ноль" и о стихотворении, посвященном Александру Башлачеву.
Полночный монолог
Коли уж говорить о стихах Татьяны Щербины, то — надо заметить — недавно она обронила очень существенную фразу, что перестала оглядываться на эстраду и — даже точнее — стала адекватна собственной интимности. Это очень существенно. Потому что связано с «окончательностью». Это назревало на самом деле, и этому, в каком-то смысле как одному из самых существенных векторов, посвящен сборник «Ноль Ноль».
— Окончательности? — Нет, приходу. Сборник фиксирует. Если взять этот вектор и посмотреть, что как бы там внутри совершилось, совершается? — переход, освобождение, уход с одной территории на другую, смена одного языка другим без перемены внешних особенностей. Все происходит там, внутри.
И для меня это связано со словом «жесткость», с чувством, что Татьяне нельзя уходить никуда. Она пребывает на той точке, она пребывает в том месте, с которого не надо уходить. Находясь на котором, нельзя меняться. Делать волевые, разумные, рациональные, даже — иррациональные усилия. Ни в какую из сторон. Надо оставаться, и это — самое сложное.
Когда я думал об этом векторе, взгляд упал на строчку:
Приятель мой, мутант неотверделый,
безумный мой собрат неукротимый…
и я это для себя однажды, когда что-то понял, назвал «великим противостоянием». Оно связано с тем, что такой огромный путь и такой напряженный в каждую секунду бытия проходится, что он равнозначен только пребываниям на земле людей, связанных с пророчествами, с Дельфами, Сивиллой. Это есть образ, на котором зиждилось начало. Но сам путь увел очень далеко.
Мы все время пользуемся прошлым. И Татьяна начинала с прошлого. Вся новость накапливалась постепенно, постепенно накопилась и оказалась в «Ноль Ноль». Основное событие связано с третьим тысячелетием, которое на нас надвигается, более того — мы избраны им, и кто слышит это избранничество, начинает меняться. А важно не то, что мы его слышим, а то, когда мы начали слышать. Потому что дальше путь страшно меняется, и любое происшествие в жизни начинает считываться органом — «приятелем моим, мутантом неотверделым». К кому здесь обращение? Где это мутантство — вне ее или внутри нее? А может, она обращается к самому органу? А если представить, что все обращения при этом есть обращения, существа, которые находятся не вне, а внутри, — представляешь, как меняется система координат?
Однажды Татьяна обронила, что всех любит, а казалось бы, вот какая равнодушная. Значит, есть какой-то орган, где она всех накапливает. И накопление открывает ей бытие, совершенно иные отношения с любовью как сущностью, а — не как с фактурой, не как с композицией, не как с судьбой. Даже не как с судьбой. Поэтому сборник называется «Ноль Ноль».
Когда я подумал, что же это такое за третье тысячелетие, которое нам всем предстоит и которое заставляет человека уходить в… — тоже уход, но уход в будущее. И что это за такое противостояние? Я вдруг догадался, чем оно будет наполнено, это тысячелетие, и слово, которое мне пришло, связано только с одним — магия. А тот орган, которым будет владеть человек, — орган реальной магии. А теперь представим себе, что здесь, сейчас, в конце нашего тысячелетия, этим именно органом пишутся стихи. Именно этим органом отбираются строчки, именно этим органом отбираются слова.
Это — некоторая преамбула к тому, что я хочу сказать.
Я хотел бы взять одно стихотворение и внутри него посуществовать. В принципе можно взять любое. Ну вот, посвященное Саше Башлачеву:
Так было тошно, что я что могла, то ломала
и все было тошно, все мало тут открылась калитка…
Истории сразу начинает сопутствовать третий человек. Поэтому так она рассказывается — «открылась калитка». Кем? Калитка — открылась. (В маленьких трагедиях Пушкина — вообще реквиемах как таковых, а этот жанр и есть это стихотворение — всегда присутствует чудо, и чудодейственное творится с автором. Например, Моцарт описывает это как чудо — «на третий день пришел», «и вдруг я стал писать», «мне было жаль расстаться» — Моцарту и вдруг жаль расстаться? — которому все время сопутствует некая сила. Откуда она идет? — изнутри.) Чудо произошло.
... и ты, принц-Улитка:
футболочка с Моцартом, два свитера, куртка, гитара…
Человек описывается вещами — футболка, куртка, гитара, — но его самого нет. Со времен Барта, его «Третьего смысла» мы получили возможность заглядывать за коммуникативный язык и логику, получили возможность вглядываться во что-то, находящееся — там.
Мы выпили чаю на кухне, но все было мало,
не отвести было глаз карих от серых и серых от карих…
Хочу обратить внимание на эту строчку — чьих глаз? Претензия оказывается достоинством, и логика совершенно ясная — «карих от серых». Тогда кому отвести? В этой строчке уже сидит, сидит третий. А в перечислении «серых от карих и карих от серых» набухает больше чем метафора. Потому что карих от серых — это еще глаза, а серых от карих — как минимум лошадь. В яблоках.
Я люблю подмечать в Таниных стихах не строй их, такой плотный, ясный, очень очерченный, подверженный логике, отчетливый, но — совершенно эзотерический. Отчетливости обязательно должен сопутствовать контекст, который связан с разгадыванием. Но не разгадыванием, как у Мандельштама, связанным с культурой, реминисценциями, книгой. А разгадыванием, которое связано с возбуждением в себе этого Органа, того органа, вокруг которого и о котором мы говорим. Магического органа, которым мы мутируем. И работа, которую эти стихи совершают с читающими их, — работа по выращиванию этого органа. Не в надежде на него (это — совершенно безнадежно), а именно — по выращиванию. Момент сделанности стихов так слышится в тоне, строе, в приметах, которыми населена сейчас культура, быт эстетического восприятия, — и все понятно. А с другой стороны, ничего непонятно, и не-сочетание смыслов заставляет вникать, работать с ним. И тогда начинает вырастать орган.
... и телемостик меж ними прорезался в облаке хмари…
Идет история медленного вызревания. А что вызревает? —
я просто обращаю внимание . . .
…Третий на нем не умещался, но все было мало…
Вот и черный человек появился, хотя сидел-то уж там давно.
…Мы очнулись опять на земле, где мой муж и твой поезд,
вот тоже отличное сопряжение — мужа с поездом, —
объединились в границу, где кончается полис.
Возникла зона, вне и за которой начинается разрушение того, что называется жизнью —
Вологодское кружево не плетется из крошева скал, но коль скоро вернешься…
Начинается история пост, жизнь после (чаще всего это обозначает смерть). И возникает причитание — «мало». Как много здесь этих «мало», как всего мало. Причитание это абсолютно неизвестно поэту, потому что если бы он на секунду догадался разумом до того, что он делает, тут же все испортил бы. Потому что есть камень преткновения — естественность структуры. (Любая структура, ее искусственность, которая восхищала нас в поэзии, поэтике, культурологии, является приметой традиционного искусства.) Искусственной структуры у Тани как бы не существует. Вся работа направлена к тому, чтобы разломать все искусственные структуры, и остается нечто, что назовем «естественной» структурой. Хочется произносить слова, которых нет. Это — огромная, рабочая проблема человека, связанного со словом. Как находить слова, которых нет? Все «неологизмы» (не придуманные слова от сочетания двух слов или чего-то еще — слишком просто, Хлебников слишком прост) произносятся определенным органом, выделяются им.
… хоть этого мало, я остальное когда-то уже поломала…
Магическое доверие и ожидание на территории уже сделанного стихотворения. Поскольку работа сделана на территории реальной магии, то естественность процесса как бы слита с самим произведением, «произведение таит процесс своего создания», остается реальный след живой работы при всей статике произведения.
«Поломала» — почему так много этого мало? Я задаю себе вопрос и понимаю, что «поломала» — слово, зазвучавшее обертонами, которых у него не может быть. «Поло»-«мало» — слово начинает звучать, вбирая в себя текст и контекст.
... и ты, кроме двух, принц-Улитка, антеннок,
наверное, все поломал.
Поло-мал. Оказывается, что «мало», движущееся сквозь все стихотворение, — не просто центральная метафора, слово, которое ни с чем не сравнивается, никак ни с чем не со-работает, приобретает функцию еще не названную. Явственно, строго и естественно— не знаемо. Потому что тайна естественного — незнаемое. И не должное знать. Не интуицией и не подсознанием это сделано. Его нельзя никак и ничем объяснить, кроме того, что дается в первом стихотворении «О пределах»,— «приятель мой, мутант неотверделый, безумный мой собрат неукротимый». Что такое «неукротимый»? Какого напряжения работа? Обращаясь туда и сюда, я начинаю чувствовать, как живет сборник. Почему «Ноль Ноль». Как он живет, посвящая, подтверждая, освещая, высветляя, затемняя, комментируя, и все — не те слова, слова старого ряда. И нужно добираться до слов, тратить энергетическую зону. Не только дозу этой зоны, а саму зону.
Поло-мал. А потом Саша Башлачев вылетает в окно. И история в стихотворении кончается именно этим. В этом смысле все и происходит. Что это—мистика? Почему — мало, мало, мало? Почему с этим связано поломала, поломал? Почему дальше — история оборачивается похоронами? Как это может произойти до, когда это произошло после? Не просто магия — реальная магия.
Как мы должны читать друг друга? Как на самом деле мы должны слышать судьбу друг друга? Как мы это и делаем, потому что ничего другого нам не осталось. О чем и написано это стихотворение. Получается сюжет, который я теперь и открою. Получается, что есть человек, которого нет, есть жизнь, которой нет. От всего человека остался один орган, которого нет. И от жизни осталось только то, чего нет. А уже есть.
«Мутант неотверделый» — не имидж, не личность— нечто. Это пребывание в ситуации, когда меня нет, но я есть, когда я весь наружу и весь вовнутрь, потому что это — фильм ужасов, который представляет наша культура. Только там, на этих напряжениях, все выворачивается наизнанку, мордами. Поэзия — ткань, среда, глаза и то нечто, где набухает все.
Эти стихи написаны после того, как слово умерло. Это ясно осознано автором. Эти стихи связаны с жизнью после смерти («но коль скоро вернешься»). Слово умереть не может — оно есть, и все. Умирает вначале человек — носитель этого слова, вернее смысла, потому что слово оживает вместе с новым смыслом. Для того, чтобы нашей культуре — и это очень существенно — обрести слово заново, носителям или творцам этой культуры нужно обрести новый смысл. И новый смысл не может быть обретен на территории смысла как такового, на территории бессмыслицы, на территории перебора, то есть болтологии. Все эти моменты новой культурой уже исчерпаны. Она уже пережила это веселое время. Вся она, так или иначе, что-то уничтожала — огромное молчание концептуализма, постконцептуальная болтология как средство против идеологии и уничтожение ее вместе со словом. Все это является сюжетом стихотворения. Это — не о художнике и не о любви. Встречаются два существа, прошедшие сквозь все. Это встречаются два человека, содержащие в себе новый смысл и возможность новых слов. (Вот сюжет— и в нем присутствует третий черный человек, и они встречаются, а правит балом «поломало».) Мы следим за историей, принявшей на себя даже не территорию, не пространство, не систему координат, а — новое тысячелетие. Мы следим за тем, что там происходит. То есть мы следим сами за собой…
(Расшифровка записи О. Хрусталевой)
См. также: