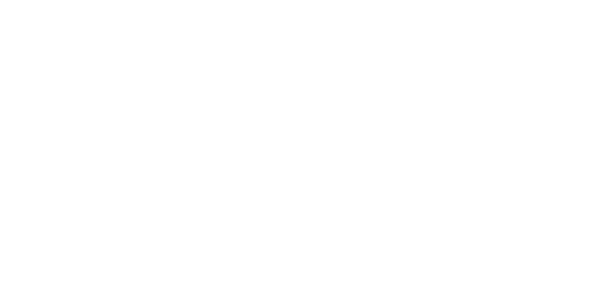5 марта 2019 года Борис Юхананов и композитор Дмитрий Курляндский встретились со студентами Института свободных искусств и наук ММУ, где поговорили о принципах, на которых строится работа Электротеатра, — о новой процессуальности и разомкнутом пространстве. Также была представлена выставка «Тающий апокалипсис», посвященная размышлениям о роли режиссера и о том, как возможно искусство в современном мире.
Об акдекватности
Открытое пространство
Оппозиция эстетическое – социальное
Недоумение как продуктивное творческое состояние
«Новая партийность»
Законы свободной болтовни
Открытость собственному потенциалу и отношения с правилами
Искус индивидуации. Психологический и постдраматический театр
О конъюнктуре
Обсуждение проекта
О педагогике
Организация акции
Магическое и «докса»
Онтологический захват
«МИР» и «Орфические игры»
Борис Юхананов: Давайте мы будем свободно с вами общаться. То есть любой вопрос, который у вас возникнет, смело задавайте, на любую тему.
Дмитрий Курляндский: Знаешь, я первый задам вопрос. По поводу адекватности. Я даже залез сейчас в Википедию, там первое объяснение – это «соответствие чему-то». И, по-моему, на самом деле, наш театр как раз неадекватный театр. Послушай, пожалуйста: «Адекватность – это способность организма реагировать на раздражитель». Мне кажется, что в нашем театре одна из основных линий, идеологий – наоборот, раздражать.
Б.Ю.: Идеологическая?
Д.К.: Идеологическая.
Б.Ю.: Но это же антоним. Я не люблю смотреть в сторону источников, потому что они всё сводят к пальцу каких-то дефиниций и критериев. Можно остаться в рамках, конечно, того, о чём ты говоришь, а можно и вывернуть всё это. Я использую это слово, потому что для того, чтобы делать театр, надо быть предельно адекватными людьми. Чтобы делать музыку, возможно, это необязательно, но чтобы делать театр, надо быть адекватным. Театр – это не просто одинокая работа. Это работа, связанная со взаимодействием огромного количества фактов, которые должны быть сведены ещё и со своеобразной индустрией, и со всеми теми элементами, без которых вот это шестимерное пространство, называемое процессуальным искусством, существовать не может. А как это определяет электроника, я не знаю. Я знаю, как этим пользуется язык в живом общении. Если туда не закапываться когтями нюансировки, то тогда что я могу вкладывать в понимание этого слова? Ясность, отчетливость, соразмерность идеи и воплощения.
Я не столько в это вкладываю репрезентативный эффект, который может беспокоить нечто нарциссическое, а вкладываю внутреннее – стратегию обращения с собственным актом проектирования. Здесь требуется (а сегодня особенно) невероятная адекватность, соразмерность, в частности, не только идее и воплощению, но и соразмерность средствам, которые у тебя есть. Включая витальную экономику и энергетику человека, включая его способность или, наоборот, чёткое понимание, что он не способен планировать, его коммуникативные возможности, которые у всех людей разные, личностные качества и так далее. Всё это должно быть соразмерно проекту. Тогда мы оказываемся в реальности. А там, где просто территория коммуникаций, просто внешнее и внутреннее, это не является необходимостью.
Д.К.: Это важное уточнение.
Б.Ю.: Конечно, я именно это вкладываю. Адекватность связана в первую очередь с тем, как организован процесс внутренний, как организован процесс жизни театра во всех его нюансах. И здесь это может даже встретиться, но не с биологическим, не с организмом – потому что театр, как и любой живой проект, это не только организм, это и механизм. Знаете, как Флоренский определил разницу между организмом и механизмом? Изумительное определение, которое продолжает работать. В механизме предыдущая часть связана с последующей. А организм Флоренский определяет как часть, связанную с целым. Сейчас, конечно, это сочетание жизни организма, то есть части с целым, и жизни механизма, то есть часть должна быть связана с последующей структурой, или одного типа организацией производства. Здесь важно соблюдать необходимые требования как по отношению к одному, так и по отношению к другому, иначе сделать ничего невозможно. Это такая прекрасная провокация к нашему разговору, мы её, конечно, перелистываем.
Б.Ю.: А знаете, друзья, мы же введение делаем. Не будем подчиняться имени нашей встречи, но всё-таки. Как сделать принципиально открытое пространство в нашем мире, в России, в Москве? Что это значит – сделать открытое пространство? Зачем его надо делать и почему, собственно, Электротеатр является одной из возможных реализаций этой идеи? Вот об этом я могу два слова сказать. Как живёт театр? Театр живёт так: он очень сильно упёрт в сторону обеспечения своей главной функции в России – создания репертуара и его показа зрителям. Всем этим он редуцирует свои отношения с миром, то есть закрывается на то время, пока готовит всё, а открывается тогда, когда наступает момент премьеры или очередного спектакля. Вот эта форма функционирования театра выработана цивилизацией, XX веком, и так он и существует вразрез, на самом деле, с тем, что стало общим местом, скажем, в идеях архитектурного проектирования или в идеях образовательных коммуникаций в широком понимании. Это просто примеры.
Как театру стать в этом смысле вровень с нормативами сегодняшней цивилизации? Это значит создать себя и представить городу – отсюда и происходит открытое пространство. Конечно, не беспредельно открытое, но существенно. Это связано и с архитектурой, и с необходимыми работами по реконструкции. Ведь театр же не просто так закрывается от людей. Это что-то индустриальное, где есть множество названий, сложный репертуар – это завод, фабрика, которая должна ежедневно работать. Например, в штате нашего театра около четырехсот человек, плюс ещё много людей на договорах, то есть в протяжении этого дела – Электротеатра – выполняют свои рабочие функции около шестисот человек. И мы поставили то, на что намекал Митя – некий ценз чрезмерности. Мы его принимаем, с ним работаем по отношению к нормам существования сегодняшнего процессуального искусства.
Это можно выразить одним словом – интенсивность. Мы очень интенсивно работаем. А что открытость при таком интенсивном труде? Оказывается, что открытость обеспечивает эту интенсивность. Это не просто жест в сторону современной цивилизации, это необходимость. Если ты закрываешься, ты, локализуя и капсулизируя собственное сознание, источники энергии, постепенно отправляешься по опасному пути стагнации. Всё застопорится. Поэтому цивилизация вышла на эти отношения с коммуникацией в широком смысле, а не только связанные с новыми медиа. Медиа – это и есть коммуникации, не только технологические, а, в первую очередь, витально-стратегические, концептуальные. Намерения должны включать в себя эту самую открытость. Потом это, конечно, сразу сказывается на проектах, строительстве, работе с архитекторами, представлениях об организации рабочего процесса.
Например, когда я учился (а учился я в разных местах, но подлинными моими учителями были два режиссёра – Анатолий Эфрос и Анатолий Васильев), Васильев никогда никого не пускал к себе на репетиции. Это были закрытые репетиции, они шли очень долго, очень сложно, с особым, даже экзистенциальным, напряжением, с обмороками, конфликтами и так далее. Результат перфекционный, но сам процесс был очень тяжелый. Эфрос был очень светлый человек, с удовольствием открыто репетировал. На его репетицию мог прийти любой. Он мог попроситься, и, если он в целом выглядел интеллигентно, профессор ему разрешал. И даже очень был рад, что зритель переносился из будущего в настоящее. Два во всём противоположных друг другу мастера. Закрытость и открытость требуют специальной подготовки. А путь заключается в том, что надо снять эту оппозицию, эту войну между закрытым типом производства жизни и художественного проекта и открытым. Как её снять – это и есть вопрос сегодняшнего времени.
3. Оппозиция эстетическое – социальное
Б.Ю.: Как сделать так, чтобы то, что ты делаешь, не пользовалось простым инструментарием, например, провокативного характера и не порождало дальше войну, а каким-то образом снимало саму возможность проявлений? Проявлений горячих, приводящих к абсолютно непредсказуемым последствиям – подчас криминальным в метафорическом смысле исхода жизни и творчества, к которому обращает нас война между полами, буквами, детьми и взрослыми, театром и современным мышлением, политикой и экзистенцией, чем угодно. Всё находится в состоянии войны. Объявляя открытым театр, ты объявляешь выход из-под власти войны над собой только самим этим жестом. И, знаете, это срабатывает. Электротеатр – это территория мира, а не войны. При том, что эстетическое по определению опасней любого пропагандистского жеста, потому что целит лучше, последствия более долгоиграющие. И если ты переворачиваешь парадигматику эстетического характера, то ты в этот момент взрываешь сознание на очень глубоких уровнях, и последствия у этого, как я уже сказал, непредсказуемые.
Какой-нибудь Джон Кейдж сделал для развития демократии, демократического общества в десятки раз больше, чем тот же самый Теодор Адорно несколькими своими опусами. И в этом смысле подлинный отряд будущего, подлинный отряд освобождения – это, казалось бы, работающие в режиме капсульного развития эстетического начала, множество художников, а не те, кто, исходя из социальных или социо-культурных, или социо-политически-культурных веяний провоцирует общество при помощи художественных актов. Вот этот соблазн тинейджеров, на самом деле, сегодня различён в своих границах, и это может быть прекрасно или беспощадно уныло. Но само направление в эту сторону сегодня не работает, оно не предлагает, не создаёт необходимого напряжения между эстетическим и социальным, без которого сегодня не может существовать никакая художественная деятельность.
А искусство создания этого напряжения демонстрирует, по сути своей, Электротеатр. Мы не капсульная территория, мы не закрываемся от тех, но мы их не возводим в степень покусывания общества или власти. Нам это абсолютно не интересно. Потому что, когда ты обращаешься с тем или иным провокативным жестом, к не предназначенному и не ожидающему от тебя такой неожиданной атаки из подворотни твоей жизни слона, получается известная басня о Моське и слоне, которая теперь превращается в абсолютный фильм ужасов. Если тогда Моська просто лаяла на слона, то сегодня Моську вылавливает куча специальных отрядов. Это можно будет сделать такой мультфильм: группа мосек лает на слона, за ними гонится полиция, моськи ускользают, собираются в специальные мятежные группировки, их сажают, Моськи страдают, а слон идёт на любовный поединок с Левиафаном, где Левиафан ебёт его, простите, по полной вообще и до конца. Вот и вся вам жизнь Моськи. У неё нет времени создавать напряжение между социальным и эстетическим. Моське не до эстетики, понимаете? Дедушка Крылов в этом смысле очень прозорливо увидел особого рода проблемы жизни мосек. А, на мой взгляд, любой провокативный жест сегодня в искусстве – это лай Моськи. Или тогда надо уже переходить в партизанские отряды и работать совершенно иначе, чего я, конечно, никому не рекомендую. Не дело это искусства, на мой взгляд. По такому вопросу как адекватность, Митя, мы с трудом нашли общий язык, а сейчас я такое несу…
4. Недоумение как продуктивное творческое состояние
Д.К.: Сейчас я как раз согласен. Собственно, почему мне интересен Электротеатр. Сидел бы я дома, композитор…
Б.Ю.: Какой композитор?
Д.К.: Ты иногда забываешь. Сидел бы дома и работал, но вот та открытость, про которую Боря говорит, это необусловленность.
Б.Ю.: Разомкнутость.
Д.К.: Это необусловленность внешним стилем. Это принципиально важно, потому что действительно провокативный жест, по сути, – жест, вызванный каким-то внешним фактором. Поэтому эта замкнутая структура герметична и стагнирует очень быстро. То, что предлагает мне лично Электротеатр – это структуры, открытые для интерпретации. Мне не предлагают готовых путей, стратегий взаимодействия с тем продуктом, в хорошем смысле этого слова, который представляет Электротеатр. Это всегда для меня территория недоумения, как очень высоко поэтического и продуктивного состояния. В начале нашего общения с Борей я не всё понимал, что он пишет. Прости, но ты знаешь. Не всё понимал, что он говорит и что делает, но вот это непонимание неожиданно в какой-то момент раскрылось для меня, собственно, территорией очень продуктивного созидания. Если бы я всё понимал, то, в общем-то, что мне тогда делать? Все инструменты у меня в руках и мне остаётся только завинчивать имеющиеся винтики имеющимися инструментами. А здесь и Электротеатр во всей своей стратегии и в художественном предложении как раз, на мой взгляд, лишает нас этих инструментов и винтиков. Ты приходишь со своим инструментом и ни к чему не можешь его приложить. Вот как пример, между прочим, сейчас у нас идут «Сверлийцы» уже 4-я часть.
Б.Ю.: У нас сериал в пяти днях и шести композиторах.
Д.К.: Я помню те недоумевающие лица, выходящие из зала в первый год, когда мы смело вышли и сразу стали много показывать. Там у нас был блок чуть ли не из десяти показов, я не помню сейчас точно. Плотно показывали. И вот что происходит – то недоумение пятилетней давности сегодня переросло, на самом деле, в очень живой интерес. Я уже не хожу смотреть, но я вижу людей иногда в фойе, входящих и выходящих после спектакля, и вижу живой интерес. Вот эти люди, кстати, как раз адекватные Электротеатру, это, так скажем, приглашение к адекватности. Театр предлагает людям, приглашает их быть адекватными себе. Я здесь приведу любимую мною цитату из не всеми любимого Карла Маркса, сказавшего в своё время фразу, которая, для меня, в частности, очень важна: «Произведение искусства формирует аудиторию, способную его воспринимать», то есть запрос идёт от произведения искусства, а не от аудитории. На мой взгляд, Электротеатр – это марксистское заведение.
Б.Ю.: А можно про фразу на секунду? Произведение искусства формирует аудиторию, способную его же и формировать. Я называю такое собрание таких индивидуаций в виде современной аудитории «авторы-потребители» – в пандан «авторам-изготовителям». Граница, иерархия, ирония, связанная с этим, оппозиция, снятие оппозиции – всё это приметы чего-то абсолютно нового. В то же время невероятно важного во все времена, что сегодня как бы всплывает, выходит на первый план происходящего процесса – в частности в культуре, но на самом деле и в бизнесе, и в социуме, и в междисциплинарных отношениях между бизнесом и культурой, социумом и частной жизнью человека. А вот театр – в данном случае Электротеатр – оказывается в эпицентре взаимодействия этих тенденций. Он открыт этому взаимодействию как таковому, и одновременно это медленная, но неотвратимая работа, связанная с преодолением как индивидуальных шор человека, так и любого типа партийной подчинённости.
Опыт существования в активном современном процессе вывел меня на поразительные рассуждения о том, что внутри нас скрывается очень ранимое, открытое к травмам сознание, подчинённое новой партийности, которая выражается во власти «своих» над человеком. Ты как бы усваиваешь «своих» – в процессе общения, в критериях… Потому что сейчас кроме всеобщих войн происходит ещё война критериев, которая при этом мутирует в персонализациях. И вместо того чтобы оставаться на своём месте, где происходят выверенные, строгие и живые споры о критериях, это переливается благодаря средствам новых технологий, в частности, сетям, – в персонализацию. И теперь высказывание по отношению к эстетическому оказывается твоим социальным жестом. Причём это происходит не только в каких-то кругах, вставших раком перед всей цивилизацией в виде разного рода объединений известного типа – например, «критики против Вилисова», или, там, «новые миллениалы против старых пердунов» и всякое другое. Вот все эти брутальные метафоры – воспримите их с дистанцией, потому что есть процессы, которые иначе как при помощи здорового турецкого языка не расскажешь.
Но не только в этих кругах. Они практически в каждой семье сегодня. Семье в художественном смысле – то есть в особом родовом сопряжении развивающихся процессов. Можно это назвать ещё ризоматическим, как Делёз говорил, ещё как-то можно назвать, не суть, это не обязательно всё сейчас вытаскивать наружу с контекстами. Созревают особого рода шоры. И вдруг человек осознаёт, что он хочет, как марионетка сделать жизнь, а не может – он уже привязан системой взаимодействий, взаимоотношений какой-то партийности. Вот открытость как некая идея развития, если копнуть глубже, связана с установлением твёрдой позиции по отношению к освобождению от всех видов партийности, потенциально возможных в сегодняшнем времени. А ведь человеку надо накопить мужество на такого рода жест. Но не просто мужество, а возможность его совершить, оставаясь при этом в неукоснительном соблюдении корректных отношений с остальными участниками художественного процесса и с самим собой. Это не так-то просто сделать.
Из зала: Я правильно понимаю, получается, что следующий шаг, куда идёт театр, это, в принципе, превращение во что-то типа реалити-шоу? Если это процесс открытый, и зритель, в принципе, может со стороны наблюдать… ну в таком, грубом смысле слова, как метафора.
Б.Ю.: Ни в коем случае, нет. Театр всегда жил по-китайски. Просто я это обосновал. «Пусть расцветают все цветы» – о чём это высказывание? Например, атомный гриб можно назвать атомным цветком. Например, Штокхаузен приветствовал 11 сентября как художественное произведение. Почему вот Штокхаузен нашёл в себе силы сделать заявление, перечеркнувшее всю его жизнь? Он потерял огромное количество контрактов, но он же был не сумасшедшим. Во всяком случае он мог потерять, об этом шла речь.
Д.К.: Нет, он к тому моменту уже собственную, вполне самостоятельную империю создал.
Б.Ю.: Он создал вполне устойчивую империю, но всё равно страшно рисковал, делая такое заявление. Он потерял, Мить. Я просто не буду сейчас спорить, но он целый ряд контрактов серьёзных потерял. Мы, кстати, об этом уже с тобой спорили, не помнишь? Так или иначе, почему художник делает такие заявления, как бы аморальные, выходящие за рамки позволительных оптических ракурсов?
Д.К.: Кстати, по-моему, там точная цитата: «Я бы себе такого произведения не смог позволить».
Б.Ю.: Но он назвал это художественным произведением. Я об этом и говорю.
Д.К.: Да, он назвал это художественным произведением. Художественным актом.
Б.Ю.: Художественным актом. То есть право на болтовню, право на несимметричное высказывание, некорректное высказывание. Право на слово. Что такое свобода слова? Что это значит? Вот это и есть «пусть расцветают все цветы». Это нам только кажется, что речь идет о какой-то простой одноуровневой эклектике по-китайски. Ни в коем случае. Парадокс, что самая замкнутая цивилизация, абсолютно отрегулированная двумя своими основными трендами историческими – даосизмом и конфуцианством – во всяком случае в той интерпретации, которую я сейчас предлагаю, оказывается, издревле живет по законам свободной болтовни. То есть свободного слова. Право на болтовню. Право на отрегулированное высказывание. Право на мысль, не цензурированную принципиально. Вот куда устремляется театр – он устремляется к полноте собственных прав. И туда же устремляется сегодня культура, верней – искусство, но искусство неотвратимо, ведь это противоположные вещи: искусство и культура.
Культура как особого рода территория, выверенная в социуме, равная в своих границах социуму... Просто это один из ликов социума. А искусство – нет. Оно может быть асоциальным, любым… Вот «пусть расцветают все цветы» – в первую очередь это первый уровень развитости, обеспечивающийся открытостью, который может произойти на территории искусства. Поэтому мы, утверждая Электротеатр, утверждаем театр как искусство. А следующий уровень – возможный, но необязательный, потому что мы обречены на переживание инвариантов, двигаясь по путям развития, следующий уровень это «пусть расцветают все цветы в мире и пусть расцветают все цветы в социуме». Более того, как некая обобщающая территория человеческих отношений вообще всех. Знаете, когда Мао Цзэдун уничтожал даосов, он оставил даосскую медицину. И более того, он её насаждал, благодаря чему лечебные и целительные практики в Китае очень высокого уровня. Иглоукалывание стало государственной практикой, например. Хотя это маленькая часть даосского искусства. А при этом конфуцианство продолжало беспрепятственно – и сейчас, и раньше – существовать как в литературе, так и, собственно, в практике продуктивных общений идеологии с властью. А значит, мы не можем маркировать театр тем или другим брендом будущего. И даже и не стоит вообще подчинять темпоральную реальность… Процесс такого характера касается, в принципе, операции с темпоральной реальностью, в отличие от виртуальной. То есть он располагается там, где и располагается новоуниверсальное искусство, или, там, новопроцессуальное искусство, если точнее, о котором я ещё даже не повёл речь.
7. Открытость собственному потенциалу и отношения с правилами
Б.Ю.: Так вот там ты должен прекрасно понимать, что любые установленные правила будут изменены. Поэтому здесь возникает вопрос отношений с правилами как таковыми. Где располагаются правила, которые ты задаёшь? Задаёшь ли ты его в силу своего осознания истинности, то есть навсегда, или ты задаёшь правило для того, чтобы оно, истратив собственный потенциал, изменилось – то есть эволюционный характер работы с правилом, работа с потенциальным. Если ты хочешь отправиться в бесконечную перспективу, ты должен понять, что она должна быть свёрнута, как инварианты, быть вариативной. Очень разнообразное пространство внутри потенциала того проекта, который ты запускаешь. И в этом смысле открытость к потенциальности (в духе нашего разговора о внутренней адекватности) это второй важный тезис об открытости. Это открытость не на город, это открытость по отношению к собственным потенциалам и к тем потенциалам, которые спрятаны в художественных границах, очерченных правилами, временем, коммуникацией и так далее. Знание о том и готовность в конечном итоге к тому, что завтра ты окажешься совершенно в других правилах универсального топоса.
Из зала: Не может ли это получаться только из-за того, что невозможно угадать с результатом, находясь внутри эксперимента, то есть когда экспериментатор вне эксперимента?
Б.Ю.: Ни в коем случае. Наоборот. Что значит «задать правило»? Это значит, например, выставить макет спектакля или определиться в чёткой инструкции, или определиться в законах, создать некую конституцию отношений. Это, конечно на примере надо рассказывать. Или структурацию задать. То есть сделать те или другие оперативные шаги, всегда связанные со взаимной договорённостью участников проекта, которые сами по себе уже нацелены на производство реальности нового искусства. В этом смысле ты всё время очень практично движешься.
Мы это знаем, например, из игр. Есть игры, в которых правила однажды и очень медленно меняются. Они меняются, но очень медленно. Мы не можем даже за несколько поколений различить их изменения. Это все спортивные игры, особенно масонские, типа футбола или, там, ещё какого-нибудь баскетбола… Вот там правила очень твёрдо заданы и практически не меняются. Даже развитие новых медиа, которые могут нам показать при общих повторах всю секундную жизнь той или другой игры, практически их не поменяли, ну очень медленно они развиваются. Это пример противоположного. А можно ли себе представить, что такое игра, которая предполагает смену правил? Надо подчеркнуть, что правила всегда наличествуют, они есть, но всегда открыта возможность их изменить. Это называется индуктивная игра. Мы можем вспомнить Витгенштейна с его остротой постановки вопросов правил. Но я даже не хочу туда уходить сейчас, я просто скажу, что индуктивная игра – это игра, правила которой создаются и изменяются во время самой игры. Вот так это можно определить.
Это имеет коренное отношение к новопроцессуальному принципу. Проявлением жизни этого глубинного принципа – я пока его называть не буду – и является открытость, о которой мы сегодня говорим, открытость Электротеатра. Когда я начинал, позволил себе сформулировать Электротеатр как театр режиссуры. Но буквально через секунду мы так удивительно стали работать с новой музыкой, что называть это просто театром режиссуры у меня уже не поворачивался язык. Для Электротеатра оказалась очень важной стратегия работы с новой музыкой и вовлечённость в её поразительную судьбу. Её судьба, мне показалось, настолько захватила нас... Не только благодаря нашему диалогу. В принципе, мы оказались чуткими, мы приняли на себя эту миссию. Чуткость собственной миссии, различение её – часть индуктивного процесса развития человека. Я и не предполагал, что новопроцессуальное искусство может зайти внутрь государственной структуры. Мне казалось, что это возможно только на свободе от какой-либо жёсткой структурации, с огромным количеством формализаций, законов, того, сего. Да и вообще свойств, которыми наделена любая фабрика. Нет. Я зашёл туда с «Золотым ослом», а теперь мы уже там расположились во всю – с очень радикальным проектом, другим по своим свойствам. И если «Золотой осёл» называется «разомкнутое пространство работы», то сейчас мы зашли с «Орфическими играми», которые называются «разомкнутое пространство мифа», что уж совсем ни в какие ворота – даже в ворота Электротеатра, казалось бы – не должно было пролезть. Нет, спокойно. Шесть дней, тридцать три игры, двенадцать спектаклей, под пятьдесят часов действия чистого, сто молодых людей – прекрасного возраста и намерений жизни, близких нашим. Участвуют сто молодых режиссёров.
Я не буду углубляться, потому что все остальные углубления оторвутся от возможности их воспринять. То, о чём я говорю, требует одновременного практического движения и осмысления. Это, в принципе, какой-то джентельменский статус художника сегодня – постараться окутать, собственно, теорией. И вот если удаётся, двигаясь в практике, постоянно содержать себя на дистанции к самому себе… Вот это мерцающее «как бы», забытое в сегодняшних лексиках и подменившее себя на «Вуди Аллена», на «в идеале»… На самом деле надо снять оппозицию между «как бы» вот этими мерцанием постмодернизма и идеалами метамодернизма и чем-то, что выдаёт себя за обретение новой парадигмы в культуре, что, на самом деле, не совсем так. Знаете, вот сознание культуролога всё время хочет сделать старое как новое. Вот он это сделал, это будет новое, а по сути – это старое. И поэтому он запутывается в трёх соснах. То есть экзистенция заставила его лелеять в себе некие образы репродукции того, что было далеко от него, а теперь он в этой репродукции оказывается. И вот испытание, которое часто перед молодым сознанием оказывается в том, что пережитые тобою в юности устремления, соблазн участия недостижимы для следующего твоего собственного этапа. И если ты это примешь, переживешь инициацию в сторону того, что пережитое тобою очарование для тебя самого (в силу уже его пережитости тобой) недостижимо, то ты на самом деле получишь этот статус открытости чему-то, что не позволило ещё тебя коснуться. Хотя это прикосновение впереди, и имя этому чему-то – ты сам, раскрывший собственный потенциал. Вот если встать на эту дорогу, если так услышать собственное развитие, например, тогда человек многое успеет. И через секунду пережить ускользание отчаянного наслаждения от когда-то совершившегося над ним соблазна, он станет продуктивен, свободен и стоек. Конечно, у него появится такая тайная морщина на его лике, как бы вот сумрачное знание...
Да, я как-то витиевато намекаю на что-то трудное, но и простое. Поэтому, я, рассказывая вам об Электротеатре, должен перейти к вашим вопросам. Единственное, когда закончатся ваши вопросы и ответы на них, я расскажу вам о чём-то, что касается, возможно, тех, кто сегодня присутствует в зале. Я расскажу вам о нашей совместной инициативе – университета и театра – о некоем таком путешествии, которое мы предлагаем, в глубины Орфического мифа, и туда, в эту потревоженную нашим баловством античную современность, связанную с Орфическим проектом. На этом хочу завершить нашу встречу. А сейчас, Мить, не хочешь ничего добавить или, наоборот, разрушить всё, что я сейчас сказал?
Д.К.: Вот то, что ты сейчас последнее сказал… Там есть интересные такие для меня вещи, но я боюсь, это большой разговор.
Б.Ю.: Я хочу ещё сказать об иррациональном. Мне грустно в последнее время говорить, но мы вступили на территорию, которая требует усилий в сторону иррационального типа общения. Иррационального. Но не так, как это происходило у сюрреалистов. Новая процессуальность – это территория, по сути, глубоко иррациональная. Об этом тоже хотелось поговорить, но на следующих встречах, иначе всё запутается. Извини, Мить. Ты начал говорить, а я прервал.
Д.К.: Всё в порядке. Просто будет очень большой разговор про очарование...
8. Искус индивидуации. Психологический и постдраматический театр
Б.Ю.: Очарование уже прошедшим – в будущем. Так строится любой диалог. Педагог и ученик, да. Ученик даёт будущее, а педагог всё время даёт учить прошлое. Но это диалектика. Получая от будущего, отдаёт в прошлое. Это старо-новая синагога, она так и строится. Постепенно, постепенно, чтобы в ней завелось некое сознание, которое создаст Голема, как Магарал. И вот этот Голем, он обязательно появляется на грани старого и нового. И если внутри какого-то процесса ты открыт к старому, к тому, что, казалось бы, прошло, то тогда самим фактом своей открытости ты ещё и можешь не сделать специальные жесты в ту сторону, ещё можешь не совершить каких-то дел. Ты разрываешь партийные путы и нарциссизм, ежегодно поступающий в жизни нового поколения, но и уничтожаешь самого себя в свете собственного будущего, как бы остальное поколение. Ты просто выходишь из-под власти, собственного поколения, времени, которое тебе предстоит развернуть. То есть ты удаляешь искус индивидуации. Если этот искус не удалять, то тогда возникнут вот эти монахи времени, которые во имя какой-то новой коллективности должны пожертвовать своими амбициями. Или во имя виртуального пространства должны лишиться тайны и услады реальных соприкосновений жизни с собой. Тобой искомый, он был не найден. Тобой самим. Вот эти все каверзы, на которые сегодня высылает время и властно, властно, очень властно направляет вас в эту новую партийность – я имею в виду, метафорически – из которой могут вырасти представления о трендах типа «всё станет вот этим сериалом, реалити-шоу». Нет, цветы цветут!
Схватите за нос того, кто скажет вам, что он знает, чем всё станет. Схватите его за нос и обмакните его в чернила, понимаете? Пусть продолжит своё обучение. Это неправда. Как только что-то произносится типа «вот сейчас, конечно, всем нам надо заниматься этим… А этим заниматься неприлично, как, например, “постдраматическим театром”. Ну кто ж сегодня занимается драматической игрой на сцене, ну что ж это всё такое?» А почему? Тысячи людей этим занимаются. Они будут заниматься всегда. Это так естественно. Зачем отменять текст, почему не транслировать чувства? Театр состоит не только ведь из великих и ничтожных современных режиссёров, художников и всяких деятелей, кооператоров в сторону великого и могучего демократического европейского ликбеза. Он состоит, например, из актёра. Ну скажите этим девочкам и мальчикам, что теперь всё – им никогда не сыграть большой драматической роли. Вы увидите, как, конечно, лица их не дрогнут (потому что они воспитаны сегодняшней новой мимикрией), но в душе они болеют. Они пришли играть драматические роли, актёр или актриса. Делать себе харакири или себя кастрировать во имя нового искусства – нет, не готов никто. Ни один человек. Говорю вам по своему горькому опыту, я – человек, который отказался от работы с драматическим текстом аж в 86-м году, и никогда об этом не жалел. Я не мог и не могу себе позволить такое извращение совершить над душами тех людей, которые составляют основную плоть любого театра – актрисы и актёры. Нет. Поэтому, принимая всю ущербность, например, для себя занятий психологическим театром, я с удовольствием им занимаюсь, и не вижу в этом ничего плохого. Возникает благословенная дистанция к этому саду, где «цветут все цветы», и вот она – этот концепт – и есть, на самом деле, будущее.
Работа именно с этой дистанцией, умение с ней обращаться, лишать себя этой дистанции – то есть входить в сад, выходить, и, в этом смысле, управлять ею. Чтобы было куда выйти, чтобы была мобильность одновременно. У этих людей – скажу, не побоюсь – телепатические возможности, душа имеется не напрасно, она не одинока по отношению к самой себе. Оказывается, душа может быть воплощена одновременно, одна и та же душа в шестистах тысячах душ. А это всё одна душа, вместе они её составляют, понимаете? Именно на этом и основан, например, психологический театр. «Психо» – душа – на этом основывается. И, возможно, твоими подлинными зрителями являются зрители, которые имеют твою же душу. Поэтому их тянет к тебе. А если придёт какой-нибудь очередной завывала из «объективщиков» и скажет: «Ну, это плохой театр, а это хороший» – ну как он может так судить? Давайте мы скажем о человеке: «Извините, это плохой человек, а это хороший». Мы же не можем так сказать, понимаете? Просто это одна душа, а это – другая. И если ты не наделён его свойствами, по закону древних – подобное подобному – ты ничего про это не знаешь. Вот где возникает новая этика. Это новая осторожность в вынашивании, а потом утверждении суждения. Это сомнение в утверждении суждения. Это искусство ускользания из-под власти суждения над суждением, или утверждения над суждением, понимаете? Это всё «колобковое» искусство ускользания человека из-под власти. Оказывается, оно вот где располагается, когда мы говорим об эстетическом, а если это ещё представить в виде ясности чувственной, эмоциональной или ещё какой-то ясности механизма и средства, где располагается искусство как таковое, то тогда это Кейдж (о чём мы говорили с Митей), переворачивающий одной инструкцией всю парадигматику музыкальную, и на этом не останавливающийся.
Электротеатр – это место, где происходит обучение открытости, не утверждение открытости как единственно возможной стратегии, а обучение этой открытости внутри и снаружи. И облучение. Как мы знаем, наибольшую силу облучения сегодня ментальных, душевных и даже духовных процессов всегда имела школа, всегда имело образование, потому что это могучая сила, которая никуда не может деться. Как бы плохо ни вели себя министерства, обязанные уничтожать или, наоборот, развивать, всё равно оно будет тем, чем оно является с этой силой, которая называется познание, образование, выяснение и всё-всё – сделать ничего нельзя. А если прибавляют созидание… А именно это два таких круга, на которых живёт Электротеатр – то есть с одной стороны и коммуникация, благословенная тусовка, построенная не просто на сплетнях и рынке, а на общении вокруг смысла и чувств. Вот тогда то, что мы называем в Электротеатре той территорией и дистанцией, мы её называем «Электрозоной» или «Школой современного зрителя и слушателя». По сути это огромная территория дистанции, как в саду, откуда можно пойти в Электротеатр, выйти и остаться в отношениях с Электротеатром. То есть оказывается, что эта дистанция может обретать черты вполне ясной территории, где происходят лекции и семинары, где звучит современная и разная музыка, люди танцуют, общаются, клубятся и так далее. Вот как устроен Электротеатр. Мить, не хочешь? Не созрел ещё?
Д.К.: Я не понимаю, почему у нас здесь плётка лежит.
Б.Ю.: Напоминает нам о наших бабушках и дедушках в деле развития садомазохистского интернационала. Но мы уже не там. Как бы мы ни хотели отправится туда, мы уже… У нас новая суровость, новый аскетизм, мы теперь чтим женщин отдельно, а мужчин отдельно. И наше почтение к полу, гендерной проблематике, оно выражается в завистливом придыхании, наблюдении за прошлым – надо же, что люди творили! Это как если бы я сейчас взял и назло хищному на службе охраннику этого места, нагло закурил, высунувшись из окна и поорав: «Смотрите, что я делаю, я профессор всех наук!»
Ну, это можно только болтать, мы так уже не поступаем. Мы – цивилизованные люди, понимаете? А если мы будем так поступать, то место нам не в Электротеатре. Это тогда надо быть очень искусным современным художником, чтобы вот эту собственно наглую не мотивированную ничем рациональную свободу возвести в степень такой извращённой аранжировки и такого правильного к этому приставленного маркетинга, чтобы твоим осеменением восторгался бы за большие деньги весь современный западный мир. Другой путь. Это тоже открытость, но открытость к трендам. Открытость, имя которой – маркетинг, конъюнктура. Это не святая российская открытость, в результате которой человек даже банкротом не может стать, потому что ему никогда не пришлось накопить состояние, которое бы он потерял, понимаете? А там люди серьёзные, они правильно умеют работать с этими приливами и отливами ново-старой европейской и мировой конъюнктуры. Как только ты встаёшь на путь конъюнктуры внутри себя, это надо признать.
А новопроцессуальное искусство сразу страждет, сразу начинаются испытания. И вот сегодня одна из проблем развития современного театра – в том, кто и по каким причинам сможет выдержать. А эти причины неизвестны. И неизвестно – кто. Вот эти испытания, маркетинговые. Это очень серьезно. Они часто пребывают там, где нам даже не может пригрезиться. Конъюнктура, маркетинг, заказ. Он, конечно, не там, где тебе предлагают заниматься пропагандой. Нет. Он совсем в других местах, но для тела, сокровенного тела, из которого разворачивается новопроцессуальное искусство, искусство овладения открытостью, это очень опасная вещь, вот эта новая конъюнктура. Но это тема для отдельной лекции, на самом деле. Потому что это не лекция, а практика: как сделать так, чтобы ты не проигрывал вот в этом «махалове», под видом которого происходит процесс культурного развития в мире, а одновременно с этим оставался беспощадно свободным от правил всемирной «махаловки», от этих джунглей, как раньше говорили, рынка, как сегодня это говорят. Потому что если потребитель диктует производителю, с этим художник никогда не согласится, но если производитель диктует потребителю, художнику это уже может понравиться. И так возникает контентный рынок. А это очень опасно, новопроцессуальное искусство там не может оказаться. Может, ты не согласен со мной?
Д.К.: Нет, согласен.
Б.Ю.: Не может. Как это так? Как справиться с тем, что ты участвуешь в рыцарских боях, одновременно с этим ласкаешь сирот в молельном доме. Как вот совместить несовместимое? Это вызов, не стоящий перед какими-то крупными художниками. Нет, это вызов, стоящий перед каждым молодым человеком, вступающим на тропу самопосвящения, а другого образа сегодня нет у самоинициации. И ему никто не передаст этот путь, никто не пройдёт его с ним. Тот, кто скажет: «Я пройду с тобой этот путь», тебя обманывает, потому что этот путь не проходится сегодня соучастием, он проходится только одиночеством – таково время. Завтра, может, всё изменится. А, с другой стороны, если ты скажешь «я сейчас возьму и сам всё сделаю», если ты будешь наделён какой-то такой наивной наглостью, ты не пройдёшь. Мы приближаемся к чему-то, о чём давно учителя Дао говорили: «Назовёшь – не Дао, не назовёшь – тем более не Дао». Вот что такое Дао. Вот иррациональное.
Я делаю мосток к следующей лекции по поводу иррационального. И теперь, друзья мои, ваши вопросы, которых обычно не бывает, потому что дядя Боря так страшно накидал много всяких слов, половину из которых просто не успеваешь осознать по пути развёртывания его речи. Но тогда возникает новое приключение: можно будет потом прочесть расшифровку и со своим удивлением обнаружить, что вы все поняли не так, как говорилось. И вам показалось, что так хорошо говорилось, а тут какая-то херня. То есть у вас могут случиться какие-то сокровенные интерактивные отношения к моему уже близящемуся к форме священного стенд-апа выступлению. Нет вопросов? Ну их нет, обычно их не бывает.
Из зала: У меня вот был такой вопрос: как вы отбираете проекты для…
Б.Ю.: Почему вот вы говорите «у меня был такой вопрос»? Его сейчас уже нет?
Из зала: Я долго над ним думала и....
Б.Ю.: Почему вы не говорите: «у меня есть такой вопрос?» Вот вы задумываетесь, почему так?
Из зала: Нет. Я даже не замечаю.
Б.Ю.: А давайте замечать. Давайте задумываться о временах, которые мы используем. Задайте вопрос.
Из зала: Вопрос такой: как вы отбираете проекты для их реализации? Как это происходит? Вот приходит человек, говорит вам: «У меня есть проект для инсталляции», допустим. Или как это вообще?
Б.Ю.: Если человек настойчивый, говорит как-то убедительно для меня, я скажу: «У тебя есть проект – покажи, дай его описание или что-нибудь такое». А то, понимаете, он говорит: «У меня есть проект», и смотрит так. Потрясающе! Я очень рад, что у тебя есть проект, а что ты ко мне пришёл? У тебя всё есть конкретно. Ну какой проект, я же не галерея, я – открытое пространство театральное. Какой проект, давайте поиграем в игру. Какой у вас есть проект?
Из зала: У меня сейчас есть реальный проект.
Б.Ю.: Я понимаю. Вообще это поколение такое. Вы пришли сюда, вообще это самый простой способ предложить свой проект, например, Курляндскому или, там, Юхананову. Предлагайте, давайте поиграем в эту игру.
Из зала: У меня есть задумка, я ещё до конца не расписала...
Б.Ю.: Видите, вот вопрос у вас был, а проект есть. Интересно.
Из зала: Да, проект есть, потому что он перманентно есть.
Б.Ю.: Как есть?
Из зала: Перманентно.
Б.Ю.: То есть в духе Троцкого. Вы знаете, чем Троцкий кончил?
Из зала: Да. Нет, я надеюсь, до такого не дойдёт.
Б.Ю.: Называется «шизодиалог». Я сейчас очень быстро вам расскажу про вас и неизвестный мне проект.
Из зала: Хорошо. В общем, есть идея перформанса, в котором…
Б.Ю.: Есть идея перформанса или проект?
Из зала: Пока он не реализуется, я всё ещё считаю, что он витает…
Б.Ю.: Когда он реализуется, это уже будет реализованный проект, это уже будет вопрос, который вы отправили в прошлое, задавая его в настоящем. Продолжаем нашу беседу. Итак, у вас есть проект, который предстанет перед нами через секунду нашего диалога в виде идеи перформанса, правильно?
Из зала: Да, идея. В общем, суть её заключается в том, что есть человек – художник, и есть зрители. Я хочу, чтобы зрители перестали быть просто зрителями, стали художниками, менялись ролями с художником, а художник стал безвольной куклой, с которой они могут делать что угодно.
Б.Ю.: Стоп, стоп, стоп. То, что составляет такую живую плоть в вашем проекте, вы начинаете говорить с такой скоростью, что я ничего не успеваю понять. Будьте медленней. Давайте мы поговорим медленнее.
Из зала: О, да, это моя ошибка. С какого момента вы не слышали, с кого момента вы запутались?
Б.Ю.: С момента, который составляет природу вашего творения. Потому что вы пытаетесь до сих пор его скрыть от самой себя и от меня. В смысле, скрываете его, когда говорите быстро. Скажите медленно. Про художника и зрителей, и...
Из зала: Обмен ролями их, обмен ролями будет. Зрители станут художниками, художник станет даже не зрителем, а объектом для творчества зрителей.
Б.Ю.: Ну, знаю одно... Ну, и что?
Из зала: И это всё будет происходит в момент действа, когда художник придёт, создаст… По моим представлениям, это будет такая тряпичная кукла безликая, просто такой образ, и закопает её прямо при зрителях, которые были художниками.
Б.Ю.: В фойе? Электротеатра?
Из зала: Да, возможно.
Б.Ю.: Ну, я просто уточняю.
Из зала: Там будут стулья, в конце зрители рассядутся и будут смотреть на это прекрасное действо закапывания куклы. Кукла символизирует как раз вот этот образ художника. Она безликая, художник стал таким безликим. Надо его закопать, избавиться от этого, и снова обрести идентичность. Художник должен обрести идентичность. То есть будет такая волшебная игра, так сказать, со зрителем и художником. Я текстом лучше излагаю, чем словами иногда…
Б.Ю.: В вашей идее есть что-то от того, что принято называть магическим актом.
Из зала: Я думала об этом.
Б.Ю.: Вы хотите сделать магический акт. Вы хотите совершить по отношению к некой модели, к кукле, как, например, в культе вуду, разные практики.
Из зала: Можно и к нигредо отнести, как к техническому процессу.
Б.Ю.: Вы хотите совершить это с некой куклой, которая принимает на себя облик художника или зрителя, наконец?
Из зала: Художника.
Б.Ю.: Совершить это и дать возможность зрителю пережить акт свершения над куклой-художником, что-то пережить в связи с этим. Вот в этом смысле приобщиться. Не стать художником, но стать неким участником колдовства над его образом, которого назвали символом. Правильно я услышал?
Из зала: Правильно.
Б.Ю.: Это, конечно, можно. А дальше вы пока не знаете, как это хотите разработать, да?
Из зала: Ну, я составила план: что мне нужно, как это будет выглядеть поэтапно расписала. И пока я всё ещё дооформляю текст.
Б.Ю.: А кого вы назначите на роль первообраза этой куклы?
Из зала: Самого художника. Я думаю, что могу исполнить это сама, потому что это моя задумка, соответственно, я хочу её исполнить.
Б.Ю.: И другого тут и не может быть. Это чем-то связано с тем, что делала Марина Абрамович.
Из зала: Да, там вдохновение.
Б.Ю.: У вас как бы два источника. Один источник – это магическая практика, не относящаяся к миру и к цивилизации, где одно искусство. Она – до этого или вне этого. А вторая – это, собственно, классические перформансы. Не только Марины, но и её в том числе. Но она без куклы действовала – она сама себя представляла для акции по отношению к себе со стороны зрителей. Вы знаете, да? Но не только она. Был Вольфганг Флатц – художник, который работал ковриком. Или он вставал в тире и предлагал стрелять в себя, или он съел мерседес, правда тут зритель не при чём. Много чего делал. Вот эта жертвенная практика, как и агрессивная, когда художник – жертва чужих воздействий. Или художник сам совершает акт агрессии – то, что Бренер делал в 90-е годы. Вы хотите художника, то есть себя, предоставить для магических акций по отношению к себе каких-то других людей, не художников. Вы их называете зрителями, но это не обязательно зрители, они могут ничего не зреть, просто чужие, не вы будете проделывать эти манипуляции. То есть вы не боитесь этого колдовства, и вы готовы с ним иметь дело. Я думаю, что ваше поколение сегодня, при всей его цивилизованности, гендерной развитости и всем-всем-всем, на самом деле очень ранимо по отношению именно к элементарному деревенскому колдовству. Большинство из вас даже не знает, насколько это связано с вашими будущими депрессиями, со всем тем, почему вы ускользаете из-под прямого контакта с общественностью, потому что у вас очень нежные души, и вы хотите это каким-то образом, в глубине, преодолеть этот страх манипуляции, которая над вами может оказать время и судьба.
Б.Ю.: Я работаю в технике, которую я называю «новая система образования». Как вас зовут?
Из зала: Нина.
Б.Ю.: …благодаря которой я могу сейчас говорить. Вот есть два принципа образования. Один принцип образования – восточный, он построен на том, что человека зомбируют учитель. Это высокая зомбоизация. Ученик становится медиумом учителя, приходит, вбирает, поселяет внутри себя учителя, становится его – в таком высоком смысле – зомби. Благодаря этому учитель как бы совершенствует карму ученика, исправляет её. И когда это исправление завершается, это может быть быстро или очень долго, ученик становится свободен и становится мастером. Европейский тип построен на том, что задача учителя – передать информацию. Он передаёт информацию, ученик, университетский тип, принимает эту информацию, потом учитель экспертирует, как информация усвоилась. Всё. Новый принцип образования, который я предложил в конце 80-х годов, принципиально новый, заключается в том (вот Митя им прекрасно на самом деле владеет, он как раз сегодня и принадлежит тому, что можно обозначить как современность), что учитель становится медиумом ученика. Меняется связка. За этим стоит очень серьёзная практика работы, конечно. Вот я сейчас работаю в этой технике. Простите меня, Лида.
Нина: Нина.
Б.Ю.: Нина. Нина рассказывает, а я просто, на самом деле, вступив в ментальную или какую-то ещё связь с Ниной, разгадываю, принимаю ось Нины, я как бы Нину поселяю в себя и благодаря этому мы становимся подобны, и я начинаю принимать ваш замысел, раскрывая его потенциал. Собственно, я на первом уровне, возможно, вам за этим и нужен. Вы приходите ко мне как к продюсеру или как к источнику неких средств для реализации, а оказываетесь в диалоге не со средствами, а с самой собой и при этом одновременно – со мной. И тогда я не настырно, не властно помогаю вам совершенствовать свой замысел, потому что как только замысел развивается в вас самой, он сам предлагает вам черты собственного осуществления. Он как бы вас выносит туда, куда направляется индивидуация со своеобразием вашего потенциала. И тогда мгновенно находятся средства. Нельзя их схватить, нельзя похитить, понимаете? Они просто приходят. Надо быть открытым, подчёркиваю, к средствам, но не в средствах дело, не в средствах. Можно иметь деньги или возможность, можно не иметь – ничего не меняется. В это не верится оттуда, где мы читаем про подвиги других, а это всё иллюзии, никаких подвигов других нет. Каждый, кто кажется нам другим, на самом деле другой, и в то же время близкий. То есть он близок своими проблемами, а другой он в свойствах своих замыслов, вот и всё. Ну и так далее, тоже отдельный разговор. Слышите, Ниночка, вот я и отозвался на ваш проект. Понятно, что если различить в нём вот эти три ипостаси и увидеть, разобраться с тем, наверное, как их сохранить в акте осуществления этого перформанса, то у вас всё получится. А дальше вы можете взять видеокамеру, пойти на полянку и совершить это.
Нина: Для меня сейчас самое сложное – как организовать людей, привлечь внимание. Нужно просто очень много времени.
Б.Ю.: Да это не проблема, как их организовать. Зачем их организовывать? Достаточно определиться с теми, кто встречается вам на пути, с предложением поехать куда-то и что-то сделать, и снять это. Потому что, как только вы перейдёте в стадиальность вашу, различив потенциал этой серьёзной акции, я предполагаю, любой ваш товарищ может принять участие в этом. «Зритель» – это вы неправильно номинируете человека этим словом. Это форматная категория, относящаяся к зрелищным мероприятиям – к кино, к театру. Сегодня поэтому и пытаются люди заменить зрителя на «автора-потребителя»… В своё время, например, Гротовский пользовался словом «свидетели», понимаете? Или, например, концептуалисты партиципаторного толка, типа Монастырского – группа «Коллективные действия». Они привлекали своих друзей, да, шли и делали. Всё. И они были, на самом деле, ещё большими интровертами. Вот, например, вы скажете: «я интровертен» – условно, простите – «Я не очень умею организовывать людей». Но есть парадокс – вы не умеете их организовывать, потому что вам этого не нужно, ведь ваш перформанс, назовём его так, или вот это ваше событие…
Нина: Ситуация.
Б.Ю.: Не называйте одним словом, потому что это не ситуация. Это что-то такое, что-то эдакое. Слово придёт. Не спешите именовать. Потом, давать имена – это дело Адама, понимаете. Не Евы. Поэтому, надо внутреннего Адама пробудить, чтобы он давал имена. Это тоже требует времени. Но вы, конечно, всё это сумеете сделать, это очевидно, потому что у вас прекрасный замысел. Поэтому это могут быть просто ваши друзья-знакомые. Если это прекрасно сделать, это можно зафиксировать на видео. Подумать, как это фиксировать. К любому малейшему акту, записанному в вашей интуиции по отношению к работе, требуется отнестись с большим вниманием. Как мы относимся к своему телу. Это вообще совет для художника. Маленький заусенец на пальчике дискриминирует жизнь организма, правда? Вот так важны детали во всём, когда вы о чём-то думаете. И тогда это ваше милосердное беспокойство к собственному замыслу, внимательное, деталированое, оно и позволит возникнуть организму. Как говорил Мандельштам, простите за цитату:
«Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты».
То есть если различить эти его слова не просто как прекрасную поэзию, а как руководство к действию художника, то тогда деталировка вашего замысла, простые задавания вопросов, различения его свойств позволит возникнуть тому организму. Вы совершите первый магический акт, который необходим в ракурсе вашего замысла. Вы вызовете духа вашего перформанса, потому что, услышав деталировку, он как бы начнёт откликаться на ещё не названное имя. Шёпот прежде губ. И тогда губы появятся. А потом, когда бездревесность кружения листов вдруг вызовет дерево. И весь этот фильм ужасов становления в душе художника его проекта в деталях, он будет реализован. Это надо выдержать. Посмотреть ясно, лицом к лицу появляющегося, вызванного из небытия бытия духа вашего. Это там, где магическое. Ну, так это назовём.
Вот это немножко из того, что я могу сказать и тут же прекращаю, а это только начало разговора, который мы должны вести. Или не должны. А где ведётся этот разговор, на какой территории, где мы сидим? На территории, где никто никуда не спешит. Поэтому для того, чтобы заниматься сегодня тем, что называется современным искусством, во всех подробностях и статусах, которыми нам надо оперировать, нам нужно выделить для себя бесконечное время жизни. Поэтому я говорю о том, что конечные проекты противоположны новопроцессуальному искусству. Потому что конечный проект вызывает ряд конечностей, которые начинают вас блокировать, вы начинаете спешить, вам надо успеть это сделать. И вот эта система блокировок приводит к уплощению любого смысла, срывает магический акт воплощения губ и шёпота древесного и так далее. И оказываетесь вы на территории воистину бескультурной и безвкусной, понимаете? Вы оказываетесь на территории невоплощённых замыслов. Вы оказываетесь на территории имитации. А мы сегодня окружены имитациями во всех сферах нашей жизни, там, где играет и не играет имитация, там, где художественный жест – это не художественный жест, а имитация. Это даже уже не симулякры, это именно имитации. В беспощадном значении этого слова. Мы сами не замечаем, как вот эта спешка, ангажированность успеха (я произношу это слово от слова «спеша», а не от чего-то другого). Успех – это реализованная спешка. Художник не может быть успешным. Это нонсенс, это оскорбление искусства, на мой взгляд.
Нина: А как же Дэмьен Херст?
Б.Ю.: Там дело другое, вы просто, возможно, не различаете в нём художника, а различаете в нём менеджера, который хорошо и правильно применяет себя как художника. Для художника нет такого слова. Успех там, где цивилизация, там, где культура, понимаете, а не там, где искусство. Искусство в принципе выскальзывает из-под этой власти. Просто имитация начинается там, где культурный жест от звонка до звонка имитирует себя как жест, связанный с искусством. Это нормальная имитация. Он даже может на этой территории утверждать. Давно пройдено это, право на эту имитацию давно выделено художнику. Но как человек пользуется этим правом – вот вопрос. Я ещё раз говорю, что напряжение между эстетическим и социальным – это тоже надо слышать как сферичную область к этому напряжению универсального характера. То есть если эстетического не будет, значит, то, что он делает, на самом деле не будет схвачено чувством, вот теми четырьмя проявлениями истины, о которых говорил Ален Бадью, ничего не получится. А именно любовью, политикой, матемой и поэмой. Вот эти четыре составляющих истины. Она всё равно есть, но для тебя она недостижима. Вот о чём я часто думаю, размышляю – о путях имитации. Но это какой-то отдельный разговор, сейчас я хотел бы остановиться, потому что я уже совсем выхожу за пределы обозначенной темы – введения в Электротеатр.
Из зала: Борис Юрьевич, вопрос такой. Когда вы говорили про магическое – это шепот, губы…
Б.Ю.: Да-да, я цитировал Мандельштама. В рамках магического.
Из зала: Когда вы говорили, вбрасывая нам идею про магическое.
Б.Ю.: Я не вбрасывал, я его обнаружил территории замысла Нины.
Из зала: Какое слово вы бы использовали как противоположность магическому?
Б.Ю.: А я же сменяю оппозиции, я не люблю противоположности.
Из зала: Но чтобы их снять, надо сначала выстроить.
Б.Ю.: Да, согласен с этим. Ну, например… Сейчас скажу вам. Вот есть хорошее слово, сейчас бы вспомнить. Оно хорошее, не банальное, очень неожиданно точное. Но слово это забыл, не могу вспомнить. Я место занял пока для слова, а если я в процессе общения вспомню, то вам обязательно скажу. Вот прямо на языке, но не может выскочить. У меня в последнее время… Мить, ты знаешь это слово.
Д.К.: Мне кажется оно только недавно говорилось.
Б.Ю.: Нет, нет, это слово разнузданное повсеместно. Его ввёл в обиход Барт, по-моему. Вы не знаете, не помните? Но есть такое слово. Вы похожи. Как вас зовут? Девушка, как вас зовут?
Из зала: Сесиль.
Б.Ю.: А Вас как зовут?
Из зала: Александр.
Б.Ю.: Нет, нет, вот Вас, в чёрном?
Из зала: Ани.
Б.Ю.: Ани? Вы чем-то похожи на Сесиль. Вы могли бы играть сестёр. Вы разные, но чем-то похожи… Вот интересно.
Магическое… Знаете, если у вас еще вопрос такого объективирующего характера, чтобы разъяснить, что я имею в виду под магической практикой, то тогда, я сказал бы, социальная практика или практика повседневности, которая не располагается в отношениях с какими-то… Практика с проявленным, инструкция, например. То есть чем-то, что располагается на поверхности вещей. А магическое искусство связано с операциями с незримым. А то, что этому противоположно, это, скорей всего, зримые вещи. Но всё-таки это не настолько парадоксальное противопоставление, которое я хотел… Докса! Вот, я вспомнил это слово. Докса. Вот я магическому бы противопоставил слово «докса». Вы что, не знаете слово? Давайте ищите.
Из зала: Это от «парадокс»?
Б.Ю.: Нет, это термин постструктуралистов из 60-х годов. Вы что, не знаете слово «докса»? Мне казалось, что все знают слово «докса».
Нина: А говорят, что термин возник ещё в Древней Греции.
Б.Ю.: Естественно возник. А постструктуралисты всегда пользуются чем-то, что возникло в Древней Греции. Расскажите.
Нина: Докса – это общепринятое мнение. Коротко. Просто общепринятое мнение.
Б.Ю.: Ну да... Но, ещё раз говорю, вы, когда будете сюда заглядывать, поймите, вы заглядываете в небытие условное, а не в бытие. Бытие слов пребывает в живом общении, в практике того, как люди ими пользуются. Это и есть живой опыт. Я так говорю из живого опыта, присвоившего себе это слово в общении. Оно как бы заново перерождается на территории живого общения и взаимодействия людей слова и обретает себя только как живой язык. В этом смысле докса – это больше, чем общепринятое. Докса – это что-то, что сознание ловит в ловушку общепринятого, что утверждает от имени здравого смысла. Это что-то, что банальное, поверхностное, уплощенное. Что-то, не признающее иного, кроме себя. Это некая такая стратегия о какой-то такой опасной… с надрывом развития, что-то замыкающее. Это что-то, конечно, абсолютно противоположное магии, потому что магия всегда индивидуальна, она не может быть общей. Она является операцией с чем-то невидимым, незримым, с чем-то таким, как у шаманов там бывает, или во время приходов, трипов психоделических и так далее. Это что-то, что отправляет сознание в абсолютно индивидуальное. Не может быть общепринятого трипа, понимаете. А это уже магия своеобразная. Внутренняя, которая ведёт куда-то туда, в собственные свойства и заглядывает туда. И это же что-то совсем отдельное, шаман может вести или какой-то учитель, посредник между мирами. Ну, мы все читали Кастанеду... Вы все читали Кастанеду? Никто его не читал, судя по всему.
Нина: Было дело.
Б.Ю.: Вот Кастанеда – как пример каких-то таких трипов. Ещё какие вопросы?
Из зала: У меня вопрос на самом деле более конкретный: про «МИР-6» и участие в ней.
Б.Ю.: Вот отлично, Вы перешли на конкретность. Больше нет общих вопросов?
Из зала: Вот в связи с проектом Нины возникла мысль, оттуда вопрос: как соотносится принцип открытости с существованием всё равно в каком-то культурном контексте и с влиянием нашей подверженности прошлому и очарования им?
Б.Ю.: А знаете, это политический вопрос, на самом деле. Это процесс, в котором вы транслируете свойства, образованные у вас благодаря встрече с обществом. Поэтому преодоление там, где вы становитесь адекватны собственному замыслу. Там, где вы идёте путём художника, а не путём общественного деятеля или культуры. То есть если вы выходите из-под власти культуры, то вы тогда и выходите из-под власти контекста, потому что контекст и все эти приквелы и способы овладевания вашим чаяниями – всё это не более чем политика, которая в вас пробралась, и заставляет служить. Это чужой, не другой, а чужой. Другой – это парадокс. Он очевиден как Другой, и тогда у вас есть задача выйти с ним на диалог, потому что это реально другой. Вы начинаете различать границы собственной тотальности, как говорил Левинас. Вот у него есть книжка прекрасная, «Тотальное и бесконечное». И она, мне кажется, сегодня очень важна для молодых, особенно художников. Она переведена, рекомендую прочитать.
То есть вы прокладываете границы собственной онтологии. Онтология – это как бы завершённое представление о вашем мире. А Другой – это тот, кто находится по другую сторону. Но надо с ним встретиться. Вот она – новая этика. А если мы говорим о чужом – это тот, кто находится прямо в эпицентре вашей онтологии, который её тайно подменяет на не-вашу, выдавая её за вашу. То есть он симулирует вас, источник. И вот с ним справиться может только художественное дарование. Старинное такое слово. То есть адекватность собственному замыслу, а не защита. Потому что вначале вы защищаетесь предварительно, осторожничая, а потом эта защита, как тень или двойник, или лакей, берёт власть над хозяином – над вами. И после этого возникают такие вопросы. «А вот что мне делать, если?» – это задаёт вопрос ваш двойник. Чтобы это убрать, надо просто дальше продолжать долгий путь, состоящий из бессловесных ощущений. Пробиваться к тому, что вы, собственно, хотите. Вы. А двойник питается гаджетами, всем фоном, где проживает энергия для его жизнеобеспечения: фейсбуком, контактами, всем-всем-всем. И когда вы лихорадочно стучите по кнопкам своих телефонов, пишите что-то днём и ночью, не понимая, насколько уже вы подвержены, как и все мы, этой инерции, вы можете её прямо различить в эту секунду – что он с вами делает. Выйти из-под этой власти непросто. Новая процессуальность – это то место, где происходит мгновенный выход из-под власти, вот эта открытость. Это не открытость в виде слушателей – «я сегодня пятку не так себе почесал, находясь на Мальдивах, вот фотка моей пятки и того, как я её почесал». Это вообще ни к чему не имеет отношения. Или «Ура, я сегодня с своей подружкой Милой наконец посмотрела “Избушку на курьих ножках”». Ну, хорошо. Но это разве имеет отношение к вашему замыслу? Не очевидно, что имеет. На таких уровнях всё различено. А вы говорите «контекст».
Из зала: Я имела в виду, прежде всего, культурный.
Б.Ю.: А какой, что значит «культура»?
Из зала: Вы очень интересно разграничиваете искусство и культуру. Для меня это ново, я просто ещё с ней не обжилась. Вот это «чужое» может проникнуть в тебя и какие-то там инста-блоги, не знаю, какие-то такие имена и крупные проекты, которые всё равно тебя окружают.
Б.Ю.: Лексический захват. Вы хотите заниматься делом мира, например, говоря со мной. Я мирный человек. Я – воин мира. А на самом деле предлагаете модель своего существования или ощущения своей реальности на войне. И это вот то, что меня сейчас занимает последние два дня, понимаете? Первое – вам надо доверять. Вот именно вам. Потому что вы устроены по-другому, чем Нина, хотя вы подруги. Даже не знакомы? Видимо, вы будете одним из тех, кого Нина называет «целитель». Те, кто закопает это чучело художника. Как вас зовут?
Из зала: Даша.
Б.Ю.: Вы Даша? А где вы учитесь?
Даша: В Московской школе экономики.
Б.Ю.: Внутренняя свобода, свобода самопоявления, она должна быть сильнее цивилизации для художника. Только тогда он будет иметь необходимую дистанцию по имени этой свободы, а видов этой свободы очень много, благодаря ей художник сможет укрепить эту самую цивилизацию. Если захочет. Больше нет больших, серьёзных вопросов? Теперь я отвечу на ваш вопрос. Как вас зовут?
Из зала: Андрей.
Б.Ю.: В «МИР-6» объявлен набор. Всё это можно прочесть на сайте «МИР». Мы набираем так: мы сейчас находимся в динамично развивающемся процессе установления взаимных, правильных отношений с университетом. То есть три структуры: две в университете, одна у меня. Бакалавриат. Вторая ступень – магистратура. Это тот вклад, который может сделать университет вот в этот замысел. И, наконец, это Мастерская. Мастерская – это переквалификация людей. Для того, чтобы получить диплом Мастерской, они должны уже иметь диплом о высшем образовании. Хотя бы быть геологами, философами, зубными врачами, но с высшим образованием. Тогда я могу дать диплом по лицензии. Или это не волнует человека и не волнует меня. Всё. Вот так люди учатся. А теперь они могут учиться не только в Мастерской, но и в Университете Свободных Искусств и наук. Или у них нет первого высшего образования, и тогда они тратят своё время на постижение чего-то, что мы уже могли дать мы, и одновременно – на получение дипломов. Или они не хотят, так сказать, совсем уже дипломированными быть и идут в магистратуру поступать и… Но это для них будет дорого стоить.
Андрей: Мне интересно, этот диплом больше нацелен на образование или на процесс…
Б.Ю.: Процесс «Мастерской индивидуальной режиссуры»? Тогда вам надо поступать ко мне и учиться.
Андрей: Я об этом и спрашивал. Точнее я познакомился как раз с Электротеатром на территории «МИР-5», на самом деле. Там мои товарищи, коллеги.
Б.Ю.: Курс «МИР-6» начнётся в октябре. После того, как я завершу с «МИР-5», это будет четырёхнедельник режиссуры. Они весь сентябрь будут на Малой сцене показывать свои индивидуальные работы. Потому что новопроцессуальный проект предполагает иные отношения с авторством. Огромная программа, в 90 спектаклей. Каждый – личный, индивидуальный. Она сейчас готовится и будет идти подряд весь сентябрь. А «Орфические игры»… Вы можете о них прочесть и на моём сайте https://www.borisyukhananov.ru/, и на сайте Электротеатра https://electrotheatre.ru/. Ходить все эти шесть дней – а это с двух до шести одна программа, потом час перерыв, с семи до одиннадцати – другая. Там сто молодых режиссёров, вот этих людей-амфибий, которые идут путём сложнейшего Орфического путешествия. Крыша может поехать, может вернуться, если она поехала давно, не знаю. Мы сделаем так: считайте, что я сегодня сделал вводное обсуждение всего, а после того как вы посмотрите, если у меня найдётся время, мы встретимся и поговорим про эти самые «Орфические игры».
Это я говорю тем, кто примет участие в этом путешествии. Что это значит? Это значит много. Вам надо освободить неделю, понимаете, по шесть дней, и смотреть весь этот поток спектаклей. Единый поток. Ты можешь посмотреть и один день, захочешь – можешь посмотреть второй. Тип взаимоотношений с такого рода программой может быть любой. Вот, например, вы заходите в музей, особенно европейского типа – потому что там много музеев, соизмеримых с человеком. Есть музеи, которые с человеком не соразмерны, но я не знаю, что советуют людям, ходящим в Лувр, или ещё в какие-то музеи. Я просто не знаю, что советовать. В принципе, это издевательство над гармонией, сам по себе такого рода музей, потому что он несоразмерен человеку, невозможно. Надо бежать сквозь залы, потому что вас подавляет его… Это просто зернохранилище времен. Находиться там отвратительно, как и в Эрмитаже и везде в такого рода музеях. Вот во Флоренции более или менее соразмерные музеи, но тоже они в сторону глобализма идут. А «Орфические игры» – это очень соразмерно с человеком, как ни парадоксально. Это не глобалистская вещь, а обратная. Вы можете, конечно, жить в огромном доме, в этих новых летающих городах, а можете жить в трёхэтажном, двухэтажном домике, и там хорошо. С природой, со всеми делами. А почему я об этом говорю? Потому что представьте себе соизмеримый с человеком музей, где выставлен, например, Шагал. Где он там, помнишь?
Д.К.: Но он маленький.
Б.Ю.: Маленький. Это очень хорошо. Вот представьте, что много дверей. А это двенадцать фресок. Вот вы зашли, пошли своим маршрутом. Посмотрели в одном зале, в другом. В следующий раз придёте, посмотрите остальное, зайдёте из других дверей. У вас начнётся процесс. И так, постепенно, в мире или в желании вы с этим встретитесь. Так и руины, например, в Кноссе. Вы были там? Вы идёте себе, бродите... В принципе, когда я услышал, что там несут эти местные гиды… Они такое несут! Прямо удивительно, как их лексика приспособилась к американскому типу восприятия в общении. Когда вы ходите сами, без всякого гида, ваша душа естественно приобщается к тайне времени, к грациям, которые посвящены совершенно другим идеям, временам, необязательно будучи образованными в теоретическом области, в области Кносской цивилизации, Микенской и так далее. Нет, вы просто различаете эти тайны искусства, жизни. Пусть вы не знаете подробностей, но если вы слушаете этих гидов – это ужасно. У вас всё убито изначально. Контакт, который заложен в человеке с другим ви́дением, убит. Поэтому ваше поколение отличается тем, что доверяет правилам, которые предлагает первый встречный. Вы должны избавиться от этого доверия. Чтобы избавиться от него, надо доверять себе. Я принадлежу поколению, которое не верило никому. И наше время было наполнено желанием разбить любое правило. Мы отрицали всё, потому что мы были детьми в полностью уничтоженной временем жизни, целой страны – благодаря коммунизму, нашествию большевиков и рабочих в нашу жизнь. Вот этим варварам. А сейчас вас всё время кормят иллюзиями того, что вот-вот вы встретитесь с главными правилами, но цивилизационными. Не вот эти менеджеры, политики и всякие эти телевизионщики, не они. Вас кормит информационный корпус, обступивший вас со всех сторон. Он испытывает вас подготовкой к усвоению информации. А информация убивает знания. Находясь в университете, надо сопротивляться университету, захвату университетом вашей души – только тогда он будет благоприятен для вас. Тогда вы будете усваивать информацию, не надеясь, что она вас сформирует. Тогда ваш желудок, при помощи которого вы усваиваете городскую пищу или какую другую, не испортится. Он будет продолжать переваривать её, но организм будет защищён. Тот организм, который рождает художник, который принадлежит художественному организму (мы начали с организма и механизма). Это очень важная степень защиты. Иначе можно выстроиться в очереди вот этих обманутых в своём усердии потребителей имитации.
Мне кажется, я создал потрясающую страшилку. В детстве я ходил по пионерскому лагерю и зарабатывал тем, что рассказывал ужастики детям. Я работал с дисциплиной. Мне самому было лет 13–14, я рассказывал младшим. Придумывал ужастики, их напрямую касающиеся. «В одном, чем-то даже похожем на этот пионерский лагерь, месте деревья довольно близко подошли к палате, которую я сторожил. Мальчики, наверно, совсем маленькие, чуть помладше вас. Вам же сейчас 10: – Нет, нам 9. – Ну да, вот и ему было 9. Он не мог уснуть. И вдруг он услышал… Это просто сказка, которая, я уверен, с вами никогда не произойдёт. Такое очень лёгкое поскрипывание крупного человека о что-то скользкое». И дальше я рассказываю, как деревья начали скрестись в окна, проникли туда, начали душить этих детей. Люди подсаживаются на ужастики. Ужастики, такие, как Хичкок – это высшее проявление культуры. Люди подсаживаются на ужастики, на тот трепет душевный, который освобождает в принципе от цивилизации и роднит со всеми временами. И дальше им говорят: «Вот будете плохо себя вести, Боря не придёт и не продолжит рассказывать свои сериалы». И дети начинали вести себя очень хорошо. Работа с дисциплиной. Вот сегодня я тоже так поработал с дисциплиной, закончил наброском очередного ужастика про ваше поколение. Надеюсь, вы подсели, и мы сможем продолжить с вами эту беседу, которая никогда больше не состоялась. Всё, ребятки, я просто завершаю наш разговор.